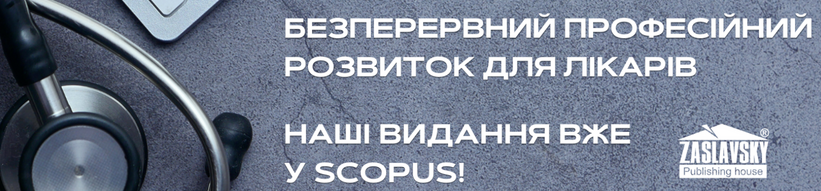Газета «Новости медицины и фармации» №14 (674), 2018
Вернуться к номеру
Портреты учителей
Авторы: Ион Деген
Разделы: История медицины
Версия для печати
Окончание. Начало в № 8, 2018
Читателям нашей газеты имя Иона Лазаревича Дегена запомнилось с первого знакомства с его публикациями. Редакционная почта свидетельствует: каждый новый рассказ ветерана привлекал внимание, оставлял радостное послевкусие от прикосновения к чему-то самому стóящему в этой жизни. Ежегодно на протяжении нескольких лет в двух, трех, а то и четырех номерах газеты появлялись яркие и запоминающиеся воспоминания думающего врача и отчаянной храбрости фронтовика.
В пятом номере за 2017 год в некрологе, посвященном памяти ветерана, читатели газеты узнали, что доктор наук И.Л. Деген — первопроходец в области применения магнитов при лечении ортопедических заболеваний. Что еще юношей за год службы командиром танка он вошел в десятку лучших советских танковых асов, его грудь украсили самые уважаемые боевые награды, в том числе высший польский орден. И еще о том, что Ион Деген — великий поэт, его стихи о войне Евгений Евтушенко включил в свою знаменитую антологию «Строфы ХХ века».
Большинство рассказов, написанных в последние годы, Ион Лазаревич впервые публиковал в нашей газете. А свою первую книгу, вышедшую чисто символическим тиражом в Тель-Авиве (1992 г.), автор назвал «Портреты учителей». Наверное, будет правильно в память этого человека-легенды предложить нашим читателям рассказы о людях, сыгравших не последнюю роль в жизни истинного врача Дегена.
И.Л. Деген поступил в Киевский мединститут в 1945 году. Но кафедры этого высшего учебного заведения располагались в разных концах города. Впрочем, как и сейчас. А передвигаться по городу инвалиду на костылях было весьма затруднительно. Пришлось перевестись в Черновицкий мединститут.
Передаем слово автору воспоминаний.
Виктор Платонович Некрасов
Я никогда не называл его по имени и отчеству, как называл всех своих учителей. Тем не менее он органично вписывается в галерею портретов людей, повлиявших на мое становление в медицине. Потому что врач — в первую очередь человек с повышенной чувствительностью к чужой боли. У кого, если не у Виктора Некрасова, следовало такому учиться?
Доброе солнце, улицы Киева утопали в зелени, промытой теплым дождем. Мы медленно спускались по Прорезной, затем поднялись в квартиру Некрасова, на третий этаж реконструированного дома в Пассаже на Крещатике.
Зинаида Николаевна Некрасова, милая, подвижная, несмотря на весьма преклонный возраст, приправляла вкусный обед остроумной беседой:
— Можно ли мириться? Я приближаюсь к девяностолетию, а Вика все еще не женат. Я мечтала о внуках. Мечтала учить их альпинизму. Чему я могу научить их сейчас? Ползанию по полу?
Виктор улыбался, с любовью глядя на маму. Было очень по-семейному в этом холостяцком доме. В послеполуденную летнюю пору все здесь казалось уравновешенным и устойчивым, как массивный обеденный стол, за которым мы сидели.
Сквозь открытую дверь я поглядывал на огромный план Парижа над тахтой в смежной комнате. Я частенько взбирался на тахту с лупой в руках и рассматривал детали тщательно вырисованных зданий. Так я знакомился с Парижем. Виктор рассказал, что архитектор рисовал эту карту в течение тридцати лет.
Зазвонил телефон. Виктор вышел в переднюю и снял трубку. За столом продолжалась беседа. Возбужденные междометия, доносившиеся из передней, свидетельствовали о важности телефонного разговора.
Из Москвы звонила Ася. По-видимому, это был ожидавшийся звонок, потому что Зинаида Николаевна тут же пожелала узнать подробности. Скульптор тоже проявил любопытство.
«Не причастный к искусству, не допущенный в храм», я только краем уха слышал о существовании Аси Берзер из «Нового мира», об этакой оси, вокруг которой вращались важнейшие литературные события.
Раздался звонок у двери.
— В этом доме не дадут спокойно пообедать. — Виктор вернулся с увесистой пачкой почты и непочтительно швырнул ее на стул. Я обратил внимание на пакет, выделявшийся среди множества конвертов.
— Вика, что это? — спросил я, обратив внимание на обратный адрес.
— Э, еще одно послание от какого-нибудь графомана…
— Интересно, что произошло бы с рукописью какого-то неизвестного В. Некрасова, если бы в свое время так же отреагировали в журнале на пакет с рукописью «Сталинграда»?
Машинально я стал открывать конверт из упаковочной бумаги, извлек страницы машинописи и начал вслух читать:
— «Делегату Четвертого съезда Союза писателей Виктору Некрасову».
Я знал, что Некрасов не избран делегатом на съезд. (Делегатами «избирались» назначенные заранее.) Вероятно, знал это и Солженицын, пославший пакет.
Первые же строки текста, наполненные взрывчаткой небывалой мощности, подняли Виктора.
— Ты чего вскочил? Какой-то графоман потревожил классика своим бредом, а ты…
— Читай, читай!
Письмо Солженицына потрясло. Я унес его домой и начитал на магнитофонную пленку. Оно бережно хранилось у нас до того дня, когда четыре офицера КГБ произвели обыск в квартире Некрасова.
Писателя Виктора Некрасова я полюбил задолго до описываемых событий. Я даже не мог мечтать, что когда-нибудь увижу человека, первая книга которого, «В окопах Сталинграда», произвела на меня ошеломляющее впечатление.
Через год после окончания войны я лежал в госпитале по поводу недолеченного ранения. Однажды библиотекарь принесла мне журнал, в котором я обнаружил повесть «Сталинград» никому не известного Виктора Некрасова. С первых же страниц стал соучастником описываемых событий. Нет, я не воевал в Сталинграде. Но я хорошо знал, что такое война. Никто до Некрасова не описал ее так правдиво, так честно, так ощутимо.
Мне исполнился двадцать один год. В моем офицерском планшете ютились стихи, написанные между боями. Я был стопроцентным ура-патриотом. Но в стихах, как ни странно, почему-то обходился без пафоса ура-патриотизма. Словно писал их не я, а другой человек. Я стеснялся своих стихов. Я знал, что советские поэты и писатели, настоящие коммунисты и патриоты, пишут о войне совершенно иначе. У меня так не получалось.
И вдруг человек, которого опубликовали, следовательно, писатель, увидел войну моими глазами. Впервые в жизни я дважды подряд без перерыва прочитал одну и ту же книгу. Спустя несколько лет, когда еще был студентом, в филармонии во время антракта я увидел невысокого худощавого мужчину с усиками на выразительном лице, со значком лауреата Сталинской премии на лацкане пиджака. Он прогуливался по фойе, любовно поддерживая под руку старую даму.
— Виктор Некрасов, — с почтением сказал мой собеседник.
Это был единственный случай, когда я видел на Некрасове значок лауреата. (В пору нашей дружбы Виктор как-то показал мне значок, полученный взамен старого. На кружке такого же диаметра профиль убийцы заменили на колос. «Одни усы оставили», — сострил Некрасов.)
Шли годы. Я прочитал «В родном городе», «Киру Георгиевну», «Васю Конакова», другие рассказы. Все, что выходило из-под пера знаменитого писателя. Мы жили в одном городе. У нас были общие друзья. Но наши пути не пересеклись. Однажды мой восьмилетний сын попросил меня повести его на матч киевского «Динамо» с ленинградским «Зенитом». Был холодный осенний день. По пути на стадион мы зашли к моему другу, спортивному журналисту. Он, оказалось, никуда не спешил.
— Как же ты напишешь отчет о матче? Завтра он должен быть в «Советском спорте»!
— Отчет уже написан. Осталось вписать счет, кем и на какой минуте забиты голы, что мы узнаем по телевидению.
— Забавно. Я считал, что хотя бы спортивные журналисты у нас говорят правду. Будь здоров. Мы пошли.
— Оставайся.
— Не могу. Я обещал сыну показать матч.
— Ты действительно желаешь увидеть это зрелище? — обратился журналист к моему сыну.
— Хочу.
— В таком случае садись напротив ящика и смотри матч в тепле, в обществе двух интеллигентных людей, а не на холоде, в окружении десятков тысяч обезьян и питекантропов. Мы с твоим отцом примем по сто граммов.
Сын согласился. В дверь настойчиво позвонили, вошел Виктор Некрасов с бутылкой в руке.
— После маминых именин осталась бутылка водки. Один пить не могу. Я подумал, что спортивный журналист не такой идиот, чтобы пойти на футбол.
— Вы знакомы? — спросил мой друг.
— Я думаю, что вы — тот самый Деген, о котором мне прожужжали уши.
Рукопожатие его оказалось крепким, мужским.
Даже в Израиле, где все друг с другом на «ты», где к самому Господу обращаются именно так, я очень медленно и трудно перехожу на «ты».
Виктор Некрасов казался мне недосягаемой высотой. К тому же он на четырнадцать лет старше меня. Тем удивительнее, что с первой минуты мы перешли на «ты». Некрасовский талант общения с людьми.
Мне часто приходилось видеть, как он, ни в малейшей степени не насилуя, не принуждая себя, на равных беседовал с академиком и с крестьянином. Для Некрасова это было естественным, беседа и с первым, и со вторым протекала, казалось, в одном ключе.
Зимой, если не ошибаюсь, 1963 года в Киеве проездом из Москвы в Берлин побывал Стейнбек. Ему устроили помпезный прием в Союзе писателей Украины. Некрасова на прием не удосужились пригласить. В тот вечер он был у нас в гостях. Примерно через полчаса после его ухода явился нарочный из Союза писателей. Так он представился. Мне нарочный показался не столько чиновником писательской организации, сколько офицером другого ведомства.
В ту пору мы жили в коммунальной квартире, без телефона, километрах в шести от центра города. Нарочному или офицеру я сказал, что действительно Некрасов был у нас, что он ушел, и я не знаю куда. В восьмом часу вечера Некрасова все же разыскали и привели в «похоронный зал». Так Виктор называл роскошный банкетный зал Союза писателей.
В зале царила траурная атмосфера. Хозяева и официальные гости сидели в напряженном состоянии, а «невоспитанный» Стейнбек не желал ни с кем общаться, пока не встретится с Некрасовым.
Встреча, теплая и сердечная, состоялась, несмотря на то, что общению в полную мощь мешал Корнейчук. Он все время вмешивался в беседу, неизменно и надоедливо подчеркивая: «Я, как член ЦК…»
В какой-то момент Некрасов впервые обратился непосредственно к Корнейчуку:
— Как у члена ЦК я хочу попросить разрешения пойти пописать.
По тому, как вытянулась физиономия Корнейчука, Стейнбек понял, что произошло нечто экстраординарное. Он настойчиво потребовал перевести. Переводчица потупилась:
— Мистер Некрасов попросился в туалет.
Казалось, Виктор знал обо мне все. Но ни разу я не сказал ему, что кроме историй болезни и научных статей я изредка писал кое-что, не имевшее непосредственного отношения к медицине. Стеснялся. Можно было, конечно, показать фронтовые стихи. Но Виктор как-то сказал, что не любит поэзию.
Спустя много лет у меня появилась возможность усомниться в правдивости этого его утверждения. Вернувшись из Москвы, Некрасов спросил меня:
— Вы что, обосрали Женю Евтушенко? — Я неопределенно пожал плечами.
— Понимаешь, я обедал в ЦДЛ. Подошел ко мне Женя и сказал: «Ваши киевские друзья меня почему-то не любят. А я через пару дней отколю такой номер, что вы ахнете». И, как видишь, отколол.
Некрасов имел в виду появившееся в «Литературной газете» стихотворение «Бабий Яр». Я не собирался обсуждать литературные достоинства этого стихотворения. Но мне не очень понравилось, что человек написал стихотворение, дабы отколоть номер.
После совместной поездки в Париж Виктор хорошо отозвался об Андрее Вознесенском, считал его порядочным человеком. Но никогда даже словом он не обмолвился о стихах Вознесенского.
Нет, у меня не было оснований не верить Некрасову, когда он говорил, что не любит поэзию. Но однажды…
В конце лета 1973 года Виктор позвонил по телефону:
— Ты занят?
— В меру.
— Приходи ко мне. Выпьем. Мне прислали кетовую икру.
— Если только ради этого, то…
— Не только, Эмик приехал.
Я не мог отказать себе в удовольствии встретиться с Наумом Коржавиным. Вместе с сыном пошел к Некрасову.
Эмик пришел с женой, милой деликатной Любой. Жена Некрасова, Галина Викторовна, приготовила бутерброды. Мы сидели вокруг кухонного стола. Предполагалось, что в кухне не установлены микрофоны, хотя я неоднократно предупреждал Виктора о том, что микрофон имеется даже в унитазе.
Эмик читал новые стихи. Не любящий поэзию Некрасов смотрел на него примерно так, как в свое время с гордостью и любовью смотрел на Зинаиду Николаевну, рассказывавшую какую-нибудь забавную историю.
От волнения потирая кулак правой руки левой ладонью, Коржавин прочитал «Песнь о великом недосыпе». Некрасов попросил прочесть еще раз, что Эмик сделал с удовольствием.
Увы, слушали не только сидевшие за кухонным столом. Следователь КГБ настойчиво выпытывал у меня, кто был шестым во время той встречи. По голосу они не определили моего сына.
Этот же следователь как-то похвалился отличной осведомленностью. Девятого мая 1965 года мы праздновали двадцатилетие Победы в корреспондентском пункте «Литературной газеты». Окна корпункта завешены, как во время войны. В целях светомаскировки. На столе, накрытом газетами, коптилка. Селедка, консервы, гречневая каша, ломти черного хлеба — все, как на фронте. Курили махорку. Хозяин корпункта Григорий Кипнис в военной форме со старшинскими погонами «командовал парадом». Судя по гимнастерке, на фронте у него были более скромные габариты. Виктор с удовольствием оглядел стол:
— Жаль. У меня дома кинокамера с итальянской пленкой.
— Низкопоклонник и космополит, — сказал я, — советская тебя не удовлетворяет? К тому же Остап Бендер дал тебе отличный совет — не оставлять фотографий на память милиции.
Виктор улыбнулся и ответил:
— Тебе по крайней мере уже нечего опасаться. На тебя там не досье, а целая комната заведена.
Все рассмеялись шутке. Спустя несколько лет следователь КГБ сказал мне:
— Вы помните, как пошутил Виктор Платонович, когда вы праздновали День Победы? Не так уж далек он был от истины.
Что касается микрофонов и прочих способов общения КГБ с Некрасовым, у нас, его друзей, ходила мрачная шутка, впервые произнесенная спортивным журналистом: «КГБ натаскивает на нем своих кадетов».
Некрасова вечером на Крещатике случайно встретил знакомый подполковник КГБ. Пригласил пойти выпить. А где выпьешь в половине одиннадцатого? Не ехать же ради этого на вокзал? Подполковник самоуверенно заявил, что все будет в полном порядке, и повел Виктора в бар гостиницы «Днипро».
Массивная стеклянная дверь бара оказалась запертой. За стеклом, словно в витрине, стоял дородный старик-швейцар в униформе с золотыми галунами и лампасами. Швейцар открывал двери, чтобы выпустить посетителей из бара. При этом он подобострастно кланялся в знак благодарности за чаевые.
Молодой подполковник решительно постучал по стеклу. Швейцар не обращал внимания. Стук стал более настойчивым. Швейцар нехотя взглянул на двух не представлявших особого интереса людей в гражданских костюмах. Подполковник через стекло показал свое удостоверение. Старик отворил дверь.
— Все, что затем произошло, не просто позабавило, а доставило мне огромное удовольствие, — рассказывал Виктор. — Швейцар из подобострастного принимателя чаевых вдруг преобразился в начальственную особу. Его седые усы и борода вмиг стали похожи на грим новогоднего Деда Мороза. «Ты кому, щенок, показываешь удостоверение? Ты что, сопля, при исполнении служебных обязанностей? Удостоверение решил пустить в ход, говнюк ты этакий? Так я тебе покажу удостоверение». И он показал. Ты, конечно, не поверишь, но этот бутафорский дед оказался полковником КГБ. Мы вылетели из бара как ошпаренные.
Не знаю, были ли еще случаи, когда КГБ доставляло Некрасову удовольствие. Неудовольствия оно доставляло ему постоянно.
Зародыш конфликта с властями гнездился в Некрасове уже тогда, когда он писал «В окопах Сталинграда». Образ благородного лейтенанта Фарбера в ту пору был явным вызовом. Официальные власти по меньшей мере поддерживали антисемитскую версию о том, что евреи не воевали.
Не знаю, стал бы Некрасов так возиться с евреями, не будь это своеобразной формой протеста властям? Хотя…
Однажды видный киевский архитектор Иосиф Юльевич Каракис, преподававший на архитектурном факультете строительного института в пору, когда там учился Некрасов, рассказал мне, как они встретились в купе поезда Москва — Киев.
— Странно, в Москве на перроне среди провожавших Некрасова были преимущественно евреи. В Киеве его встречали тоже преимущественно евреи. Расставаясь на Вокзальной площади, я спросил Вику о причине такого подбора друзей. Знаете, что он мне ответил? «Иосиф Юльевич, я просто люблю интеллигентных людей».
Фраза, произнесенная невинным тоном, была только полуправдой. Наполненная болью статья в «Литературной газете» против превращения Бабьего Яра в танцевальную площадку вознесла Виктора Некрасова. Он приобрел трудную и почетную должность полномочного представителя советских евреев во враждебном окружающем мире. Эта же опасная должность сделала Виктора Некрасова знаменем истинной нееврейской интеллигенции. Люди поставили Некрасова в один ряд со Львом Толстым, Горьким и Короленко.
Траурное осеннее небо нависло над Киевом 29 сентября 1966 года, ровно через четверть века после начала бойни в Бабьем Яре. Бойни? Человечество еще не придумало этому названия. Трагедия? Катастрофа? Охватывают ли эти земные слова космическое сатанинство преступления? Способно ли человеческое сознание вместить и осмыслить произошедшее здесь?
Даже приблизительно не могу сказать, сколько сотен или тысяч киевлян пришли на стихийную демонстрацию памяти и протеста. Режиссер Украинской студии кинохроники Рафаил Нахманович снимал фильм, которому не суждено было появиться на экране. Он снимал фильм с разрешения и благословения главного редактора студии Гелия Снегирева. В этот день главный редактор Гелий Снегирев сделал первый шаг на тропе войны с преступной социалистической системой, войны, в которой он был уничтожен.
Взоры людей остановились на Викторе Некрасове. Некрасов говорил негромко. Но такая тишина окутала Бабий Яр, что слышно было шуршание шин троллейбусов на Сырце, а тихое стрекотание кинокамер казалось смертельным треском пулеметов.
Некрасов говорил негромко о невообразимости того, что произошло здесь четверть века назад, о немцах, об их пособниках-украинцах, о том, что коллективная память человечества должна способствовать предотвращению подобного в будущем, о преступности забвения и умолчания.
Серый недомерок, полуметровый камень из песчаника вместо памятника в Бабьем Яре стал позорищем Киева. Власти, наконец, объявили открытый конкурс на проект памятника. Было немало других хороших проектов. Некрасову понравился проект Евгения Жовнировского совместно с архитектором Иосифом Каракисом.
Произносились взволнованные речи. Чутко, как и все присутствовавшие, я реагировал на каждое слово, доносившееся с трибуны. Виктор был настроен иронически.
Во время наполненного высоким трагизмом выступления кинорежиссера Сергея Параджанова Виктор насмешливо прошептал:
— Хочешь, поспорим, что из всего этого ни хрена не получится. Не пройдет ни один из проектов. Какому-нибудь официальному говнюку, этакому Вучетичу, закажут бравого солдата со знаменем в одной руке и винтовкой в другой.
Некрасов оказался провидцем. Пусть не солдат со знаменем и винтовкой, но нечто подобное соорудили в Бабьем Яре. На памятнике даже намека нет на то, что 29 сентября 1941 года немцы приказали явиться сюда «всем жидам города Киева», что в течение трех дней с утра до темноты здесь хладнокровно расстреливали детей, стариков, женщин.
В Бабьем Яре соорудили памятник «жертвам Шевченковского района». Идиоту, придумавшему эту надпись, следовало бы вдуматься в ее смысл…
Как-то Некрасов еще раз вспомнил Вучетича. Мы встретились с Виктором после его возвращения из Волгограда, куда он был приглашен на открытие мемориального комплекса. Я видел эти грандиозные сооружения по телевидению.
— Ну, как? — спросил Некрасова.
Он махнул рукой и мрачно ответил:
— Вучетич засрал Мамаев курган.
Некрасов написал сценарий фильма «Солдаты». Забавная история произошла при обсуждении этого фильма в Главном политическом управлении Советской армии.
В обсуждении участвовали маршалы во главе с Жуковым и большие генералы. Они обрушились на Некрасова за изображение отступления от Харькова. Мол, это позор, это пасквиль на доблестную Красную армию. Это черт знает что такое!
Некрасов спокойно выслушивал маршальскую ахинею, но только до того момента, пока они не заговорили о Харькове. Тут он взорвался:
— Не знаю, как отступали вы, а я отступал так, что кадры отступления в фильме кажутся мне подлой лакировкой. При этом, заметьте, мы драпали по вашей вине. — Некрасов демонстративно посмотрел на часы и сказал: — Вы свободны, товарищи маршалы.
Военачальники были так ошарашены этой неслыханной фразой, что тут же разошлись, не произнеся ни слова.
Следует заметить, что при всей внешней деликатности и мягкости Некрасов был мастером неожиданных атак, ставивших человека в совершенно идиотское положение.
На торжественном приеме в Париже министр культуры Советского Союза товарищ Фурцева обратилась за поддержкой к члену своей делегации, когда возник спор с французскими писателями по поводу социалистического реализма:
— Виктор, что вы скажете по этому поводу?
Некрасов ответил ей в тон:
— Знаете, Катя, мне трудно с вами согласиться.
Однажды, зимой 1974 года, Виктор позвонил в одиннадцатом часу ночи и попросил меня к телефону. Жена сказала, что я лежу в госпитале. Напомнило о себе ранение. Виктор спросил, когда можно меня навестить, и попросил продиктовать адрес госпиталя. Внезапно прервалась связь. Бывает. Жена подождала. В течение пятнадцати минут не было повторного звонка, и жена позвонила Некрасову. Телефон все время занят.
На следующий день зарубежные радиостанции сообщили, что накануне ночью КГБ начал обыск в квартире Некрасова.
После выписки из госпиталя я пришел к Виктору. Он рассказал, как во время телефонного разговора с моей женой вдруг прервалась связь. В тот же момент настойчиво позвонили и застучали в дверь. Четыре офицера КГБ всю ночь допрашивали и шарили в квартире. Я разозлился, что Виктор даже не потребовал предъявить ордер на обыск квартиры, а его удивило, что я вообще говорю о соблюдении каких-то законов.
Он не видел смысла сопротивляться подобным образом. Он устал.
Устал воевать с советской властью, с ее органами принуждения, с ее аппаратом лжи, со спилкою радянськых пысьменныкив, из которой его уже исключили.
Он страшился оторваться от родной земли и завидовал евреям, уезжавшим в Израиль.
29 сентября 1976 года сквозь вой глушителей и треск помех к нам прорвался такой знакомый, такой родной голос Виктора Некрасова. Из Израиля!
В поселении в Галилее бывшие киевляне отмечали тридцатипятилетие трагедии Бабьего Яра. Из Парижа к ним в гости приехал Виктор Некрасов.
А в Киеве, где соцреалистическая глыба памяти «жертв Шевченковского района» стояла на месте памятника десяткам тысяч евреев, уничтоженных в Бабьем Яре, мы слушали прорывавшуюся сквозь помехи взволнованную речь друга.
Есть в медицине такое понятие — патогенез. Это цепь причинно-следственных звеньев, приводящих к состоянию, которое мы называем болезнью.
В этой главе, заключающей воспоминания о моих учителях, я постарался не быть врачом. Сорок два года назад я впервые прочитал «В окопах Сталинграда».
Я полюбил писателя, создавшего эту книгу. Я не знал, что когда-нибудь встречу его, что мы станем друзьями, что потом пути наши разойдутся.
Действительно, это не имеет значения. Сорок два года назад я полюбил писателя Виктора Некрасова навсегда.
Везло с детства
Вероятно, рассказы о моих учителях следовало бы начать с портрета воспитательницы детского сада. Четко помню ее возмущенное лицо, когда меня, пятилетнего ребенка, укусила гадюка.
— В детском саду двести детей. Все дети как дети. Почему никого не укусила гадюка? А именно тебя должна была укусить гадюка! — негодовала она, отсосав кровь из ранки на моей ноге. Так я впервые узнал о своей отрицательной исключительности.
А первая учительница, Роза Эммануиловна? Она невзлюбила меня с того самого момента, когда из нулевого класса меня перевели к ней, в первый. Я был не прочь остаться в «нулевке» вместе с моими друзьями из детского сада, однако педагоги почему-то решили, что в нулевом классе мне делать нечего.
Но Роза Эммануиловна считала: в первом классе мне тоже нечего делать. Вообще по отношению ко мне она была настроена мистически, была уверена: во мне живет какой-то бес, который все схватывает на лету и разрушает ее стройную педагогическую концепцию, дезорганизует всякий порядок. Она даже придумала мне имя — Дезорганизатор.
Думаю, никакого беса во мне не было. Просто некоторый избыток энергии требовал выхода. Роза Эммануиловна, вместо того чтобы включить этот избыток в общую энергетическую систему страны социализма, решила запереть его плотной педагогической плотиной. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Кульминацией наших непростых отношений стало весьма неприятное событие, произошедшее во втором классе. Мне удалось спровоцировать двух девочек на вполне достойную баталию. Девочки были примерными ученицами и отпрысками важных семейств. Я с удовольствием наблюдал за тем, с каким озлоблением учебно-показательные девочки выдирают друг у друга волосы. Подкравшись ко мне, Роза Эммануиловна левой рукой оперлась на парту, а правой, сладострастно оскалившись, ущипнула меня за плечо. Я чуть не взвыл от боли. Но в тот же момент взвыла учительница первая моя. В моей руке была зажата ручка, и я что есть силы вонзил перо в кисть, опиравшуюся на парту.
В свое оправдание могу сказать, что никогда у меня не было агрессивности. Лишь мгновенная защитная реакция. Все немалочисленные драки, в которых я участвовал, больше того, все бои от начала и почти до конца войны, являлись иллюстрацией этой защитной реакции.
Силовыми приемами отличалась учительница немецкого языка Елизавета Семеновна Долгомостевая. Она обычно оставляла меня без обеда, то есть заставляла томиться в школе после окончания уроков, затем уводила меня к себе домой. В ее саду я приноровился компенсировать свое заключение разными плодами.
Елизавета Семеновна сделала меня самым выдающимся знатоком немецкого языка в нашей роте, а может быть, даже в батальоне.
А как не поклониться памяти блестящего педагога Михаила Васильевича Шорохова за вдохновенное преподавание истории. А преподаватель русской литературы Александр Васильевич Иванов тратил на меня свое свободное время, протоиерейским басом читая в оригинале «Илиаду», «Джинны» Виктора Гюго, «Сердце мое на Востоке» Киплинга (не знал тогда, что это переведенное с иврита стихотворение Иегуды ха-Леви) и многие другие шедевры мировой поэзии. Я не понимал ни древнегреческого, ни французского, ни английского. Зато слышал изумительную музыку стихов, цезуры «Илиады», построенное ромбом уникальное стихотворение Гюго и завораживающую молитву моего народа, о котором еще очень долго у меня не было ни малейшего представления. Гораздо позже читал эти стихи в переводе на русский язык, подражал Александру Васильевичу, слегка распевая заворожившие меня строфы.
Еще один учитель, Теофил Евменович Шевчук, открыл для меня мир украинской поэзии. Нам повезло. Он был не только учителем украинского языка и литературы, но и директором школы. В этом качестве неоднократно спасал меня лично от некоторых разгневанных педагогов. Когда в конце учебного года решался вопрос о похвальной грамоте, директор предлагал педагогическому совету обратить внимание на мои успехи в учении и закрыть глаза на некоторые, скажем так, шероховатости в поведении.
Учитель рисования Анатолий Платонович Коптяев любил мои рисунки и меня. Постоянно напоминал мне, что мой брат Фалик, который учился у Анатолия Платоновича в реальном училище, был более послушным и воспитанным мальчиком. Анатолий Платонович считал, что я должен стать художником. Увы, не он один ошибался. А Борис Эльевич Шеркер привил мне любовь к физике, втолковал, что недостаточно знать лишь правило правой руки и законы Ньютона.
Так получилось, что вскоре после школы моими учителями стали командиры танкового училища — преподаватель тактики полковник Кузмичев и преподаватель техники лейтенант Коваль. Может быть, их уроки помогли мне остаться в живых.
Наконец, институтские учителя. О каждом хочется рассказать поименно. С удовольствием бывшие студенты вспоминают яркие лекции патологоанатома профессора Наума Моисеевича Шинкермана. Не менее теплый след оставил профессор-терапевт Владимир Адольфович Тригер — вдумчивый врач и очень добрый человек. Раз уж речь зашла о доброте, как не вспомнить судебного медика доцента Александру Алексеевну Дикштейн, всеобщую любимицу нашего курса. (Надо же было донской казачке жить под такой неудобной фамилией.)
Вслед за ними, а может быть, впереди, проявляются в памяти заведующий кафедрой инфекционных болезней профессор Матвей Давидович Пекарский и ассистент-терапевт Иосиф Ефимович Лифшиц, доцент-терапевт Бенцион Борисович Роднянский и доцент-невропатолог Леонид Михайлович Фельман, и, конечно же, профессор-психиатр Нина Петровна Татаренко, научившая меня гипнозу.
А как не вспомнить заведующего кафедрой физики доцента Морозова и ассистента этой кафедры Нудельмана! Оба в хлопчатобумажной солдатской форме пришли с войны и самозабвенно преподавали нам свой предмет. Или заведующего кафедрой акушерства и гинекологии профессора Людвига Борисовича Теодора и доцента-гигиениста Дмитрия Ивановича Головина, ассистента-терапевта Якова Давидовича Кричина (Митя и Яша были добрыми и верными друзьями нашей небольшой студенческой компании — «мальчишника»). Нельзя не сказать хоть несколько слов о профессоре-фармакологе Степане Петровиче Закривидороге, человеке, который оставался порядочным, несмотря на все соблазны черного времени. Живой пример и блестящие лекции заведующего кафедрой топографической анатомии доцента Николая Петровича Новикова тоже помогли мне стать специалистом.
Мой врачебный путь был отмечен дружбой выдающихся ортопедов-травматологов. Один из них — московский профессор Аркадий Владимирович Каплан. Представляю себе его состояние, когда в монографии «Повреждения костей и суставов», изданной в 1979 году, он должен был вместо меня, автора нового метода лечения, назвать другого ученого, слава богу, хорошего человека. Не менее дорожу дружбой профессора Федора Родионовича Богданова, члена-корреспондента Академии медицинских наук.
В предыдущих главах уже ссылался, теперь хоть назову по имени главного ортопеда-травматолога СССР, председателя ученого совета министерства здравоохранения СССР и директора Центрального института травматологии и ортопедии академика Мстислава Васильевича Волкова. Это он нашел в себе желание и мужество стать на мою сторону в конфликте с грязной киевской бандой, состоящей из профессоров, фактически не имевших среднего образования. Пусть хоть некоторой отрадой для него, покинутого в конце жизни «друзьями» и лебезившими перед ним подчиненными, будет сознание того, что на свете не перевелись люди, умеющие сохранять благодарность.
Я уже упоминал, что врач подобен фотону: его масса покоя равна нулю. Чтобы не стать нулем, продолжаю учиться.