Газета «Новости медицины и фармации» 6 (535) 2015
Вернуться к номеру
Его превосходительство основатель миргородского курорта
Разделы: История медицины
Версия для печати
Статья опубликована на с. 22-25 (Мир)
Семинарист, земский врач, военный лекарь, генерал-майор, действительный статский советник — этапы жизненного пути нашего славного земляка, основателя миргородского курорта Ивана Андреевича Зубковского (1848–1933).
/22_m/22_m.jpg) Не так уж много в истории Российской империи семинаристов, дослужившихся до генеральских погон, до ранга действительного статского советника, которому полагалось обращение «Ваше превосходительство!». Ранг действительного статского советника и генерал-майора давал право на получение потомственного дворянства.
Не так уж много в истории Российской империи семинаристов, дослужившихся до генеральских погон, до ранга действительного статского советника, которому полагалось обращение «Ваше превосходительство!». Ранг действительного статского советника и генерал-майора давал право на получение потомственного дворянства.
О достоинствах врача лучше всего говорит добрая слава, сопровождающая его имя при жизни и много лет после кончины. Операции в полевых условиях, лечение в стационарах госпиталей вернули в строй многих пациентов лекаря Зубковского. Есть у военного врача и сугубо армейские заслуги. Оказывается, это он предложил заменить дубовые баклаги для воды стеклянными и алюминиевыми. Невозможно подсчитать, сколько солдат уберегло от болезней в Первую мировую, затем в Гражданскую и в страшную последнюю войну это нововведение генерала от медицины Зубковского. Его конструкция солдатской баклаги до сих пор в строю. В отличие от остальных видов экипировки солдата.
Вода удивительным образом проходит через всю жизнь нашего героя. Вместе с братом Афанасием, тоже, кстати сказать, студентом медицинского факультета университета Св. Владимира, они в родной деревне Ерки выкопали колодец, чем на долгие годы обеспечили односельчан чистой водой. А когда генерал-майор Зубковский в 64 года вышел на пенсию и был избран городским головой Миргорода, вопрос о питьевой воде встал в заболоченном городе ребром. Вообще обострился с началом Первой мировой войны и наплывом беженцев.
Пенсионера Зубковского, как это принято у первооткрывателей, начиная с Колумба, поначалу подстерегала неудача. Но он сумел обернуть ее большой удачей, определившей будущее города на сто лет вперед. Городская управа изыскала средства для бурения артезианских скважин. Однако вода оказалась непригодной для питья, с запахом сероводорода.
Нетрудно догадаться, куда бы повернула история, если бы во главе города не стоял энергичный и образованный человек. В условиях войны и разрухи ему удалось в кратчайшие сроки не только разобраться в составе воды нового источника, но и доказать ее лечебные свойства. Мало того, при ограниченных ресурсах и возможностях в Миргороде был открыт в 1917 году (!) первый лечебный сезон.
На новом курорте теперь отдыхали многие известные в Украине люди. Легенда гласит, что поэт Павло Григорьевич Тычина убедил Ивана Андреевича оставить потомкам свои воспоминания. К счастью, рукопись сохранилась в архиве. Послужила материалом для разного рода изысканий и диссертаций. Только в 2008 году стараниями депутата Миргородского городского совета Владимира Алексеевича Зубковского воспоминания основателя курорта и другие материалы о его жизни были изданы самым современным для нашего времени тиражом — в 500 экземпляров. Неудивительно, что книга сразу стала библиографической редкостью.
Предлагаем вниманию читателей отрывки из воспоминаний И.А. Зубковского «Дни моей жизни».
Яков Махлин, журналист
Дни моей жизни
Сын священника
Исполняя желание моих дорогих товарищей, я и решился написать автобиографию, останавливаясь в ней, главным образом, на некоторых пережитых моментах в течение 82 лет моей жизни и 53 лет моей врачебной и литературной работы. Еще раз в этих воспоминаниях хочется пережить молодые и старческие годы, полные и счастья, и мечтаний.
Родился я 13 ноября (ст. стиль) 1848 года в селе Ерках Миргородского уезда Полтавской губернии, где мой отец был священником. Через полтора года его перевели в Миргород, где был он законоучителем в уездном училище, а потом протоиереем и настоятелем Соборной церкви.
Детство мое, таким образом, прошло в Миргороде. Грамоте учил меня отец, после подготовки поступил я в Миргородское уездное училище. В 1861 году, когда я был в последнем (3-м) классе этого училища, к нам приехал учителем русского языка Анатолий Патрикеевич Свидницкий, сын священника Подольской губернии. Учился он сначала в Подольской духовной семинарии, а потом в Киевском университете, но курса там не окончил по бедности и потому взял место учителя в Миргороде.
Он был тогда совсем молодой человек и большой, по-видимому, бедняк, так что первые месяцы ходил еще в своем «студенческом костюме». Пока, как он выражался, «не спромігся з грошима улаштувати собі мундир»…
По окончании Миргородского уездного училища я занимался изучением латинского и греческого языков сначала с моим отцом, а потом — два года — в последнем классе Лубенского духовного училища и поступил в 1865 году в Полтавскую духовную семинарию. Застал я ее уже совершенно не похожей на ту бурсу, которую так красочно описал когда-то Помяловский, а потом и Свидницкий в своем романе «Люборацькі».
Либеральное движение 60-х годов затронуло тогда и это «убежище духовных чад». Среди последних тут были уже и «тайные» (от своего начальства) семинарские кружки, преследовавшие цель самообразования и имевшие связь с такими же гимназическими кружками. Вскладчину выписывались такие либеральные по тому времени журналы, как «Дело» и «Отечественные записки». Семинаристы зачитывались статьями Писарева, Шелгунова, Португалова и Флеровского, а также Лассаля. Взахлеб читали Добролюбова и Белинского. Конечно, все это приходилось прятать от семинарской инспекции, которая нередко производила обыски по квартирам, и если находила что-либо подобное, то конфисковывала «запретную литературу».
Программа предметов, преподаваемых в первых 4-х классах семинарии, была очень хорошая. Здесь, кроме предметов, проходимых в гимназии, читались еще логика, психология, история философии и педагогика. Из новых языков читался только один — немецкий.
/23_m/23_m2.jpg) Учительский персонал застал я тогда в Полтавской духовной семинарии очень хороший. Это в большинстве была молодежь, присланная сюда по окончании Киевской духовной академии. В числе их был и приехавший в 1865 г. Иван Семенович Левицкий, впоследствии известный украинский писатель-беллетрист, писавший под псевдонимом Иван Нечуй. Он читал нам словесность и историю литературы. Знакомя нас с творчеством некоторых украинских авторов, иногда в классе читал их произведения. Помню, один раз он читал «Тополю» Шевченко. Маленького роста Иван Семенович сидел не на стуле, а на столе и с увлечением читал под напряженное внимание и гробовое молчание слушателей в классе. Вдруг в коридоре прозвенел звонок на перемену урока, а Иван Семенович, увлеченный, продолжал читать. Неожиданно с задней скамьи раздался довольно грубый и громкий голос какого-то камчадала: «Колокольчик бье!» Иван Семенович, опустив книгу на колени и подняв голову в направлении крикуна, спросил: «Бье?» — и добавил: «Побила б тебе лиха година!»… Весь класс расхохотался, зааплодировал и просил читать дальше. По окончании чтения Иван Семенович ушел, а семинаристы кричавшему камчадалу сделали ту «вселенскую смазь», о которой писал Помяловский.
Учительский персонал застал я тогда в Полтавской духовной семинарии очень хороший. Это в большинстве была молодежь, присланная сюда по окончании Киевской духовной академии. В числе их был и приехавший в 1865 г. Иван Семенович Левицкий, впоследствии известный украинский писатель-беллетрист, писавший под псевдонимом Иван Нечуй. Он читал нам словесность и историю литературы. Знакомя нас с творчеством некоторых украинских авторов, иногда в классе читал их произведения. Помню, один раз он читал «Тополю» Шевченко. Маленького роста Иван Семенович сидел не на стуле, а на столе и с увлечением читал под напряженное внимание и гробовое молчание слушателей в классе. Вдруг в коридоре прозвенел звонок на перемену урока, а Иван Семенович, увлеченный, продолжал читать. Неожиданно с задней скамьи раздался довольно грубый и громкий голос какого-то камчадала: «Колокольчик бье!» Иван Семенович, опустив книгу на колени и подняв голову в направлении крикуна, спросил: «Бье?» — и добавил: «Побила б тебе лиха година!»… Весь класс расхохотался, зааплодировал и просил читать дальше. По окончании чтения Иван Семенович ушел, а семинаристы кричавшему камчадалу сделали ту «вселенскую смазь», о которой писал Помяловский.
Иван Семенович любил задавать нам сочинения, как для писания на дому, так и в классе на разные темы. У меня до сей поры сохранились мои семинарские сочинения на темы, предложенные Иваном Семеновичем. Они были, например, такие: «Почему учащимся нужно читать книги?», «Какая жизнь лучше — сельская или городская?», «Слепой нищий», «Появление холеры на селе», «Положение женщины в семье по народным песням», «Полтавская осень», «Религиозные верования и обряды простого народа в Рождественские праздники», «Остатки язычества славян по песне «Слово о полку Игореве», «Характеристика лиц, выведенных Тургеневым в его романе «Рудин» и пр.
Мы, учащиеся, в первое время знакомства с Левицким не знали, что он украинофил. И вот в числе тем для классного сочинения один раз он дал такую: «Смерть крестьянской матери семейства и ее значение в крестьянской семье». Я в один час сиденья в классе написал на эту тему целый лист и, не переписывая, подал. Вывел я крестьянскую очень бедную семью, состоявшую из мужа, больной и умирающей его жены и четырех малых детей. Все разговоры их между собой и соседок, навещавших больную по очереди и помогавших в хате больной по хозяйству и по уходу за хворой, я передал на украинском языке и ожидал себе неприятностей, так как тогда началось уже гонение и на язык, и на литературу украинскую. Через несколько дней Иван Семенович принес классные наши сочинения для раздачи нам обратно и сказал: «Я хочу прочитать вам очень хорошее сочинение одного из ваших товарищей» (фамилии не назвал). И начал, неожиданно для меня, читать мою рукопись. По прочтении прибавил, что ему в этом сочинении «очень нравится то, что автор так тепло, хорошо и правдиво обрисовал доброе отношение к больной и к горю ее мужа и детей со стороны соседей-крестьян». «Наш простой народ таков действительно и есть», — добавил Иван Семенович.
Очевидно, он принадлежал к тем народникам 60-х годов, которые тогда идеализировали крестьянство и возлагали на него, с освобождением от крепостничества, большие надежды.
Студент университета
Молодежь, рвавшаяся тогда в университет, предпочитала медицинский факультет, так как считала, что профессия врача наиболее близко поставит их к крестьянской среде, а молодежи в то время, охваченной народническими стремлениями, хотелось работать среди простого народа и для народа преимущественно.
Я окончил полный курс семинарии в 1870 году по успехам вторым учеником и мог быть послан на казенный счет в духовную академию, но я туда не пошел, а ехать сразу поступать в университет не мог, так как отец мой был бедняк и не в силах был дать средств для этого. Я поступил учителем математики в Миргородское уездное училище, был также преподавателем русского языка и арифметики в женском училище, устроенном тогда земством. Имел и частные уроки. Побыв один год учителем и собрав 300 рублей, я отправился в Киев и, выдержав вступительный экзамен, в 1871 году поступил на медицинский факультет. Через полгода по экзаменам я был освобожден от платы за право учения (50 руб.), а через год получил стипендию от миргородского земства (250 рублей в год).
В означенный год в том университете обучались на разных факультетах 8 студентов — уроженцев Миргородщины. По моему предложению в 1872 году был сформирован украинский миргородский студенческий кружок, в состав которого вошли все уроженцы Миргородского уезда и несколько студентов из Гадячского и Лохвицкого уездов. В то время в Киеве было несколько украинских кружков или «куреней», как мы их называли. Было немало и кружков чисто революционных. Существовала и давняя украинская «Стара громада» и «Нова громада», в которой принимали участие некоторые профессора университета и учителя средних учебных заведений, как, например, В.Б. Антонович, М.П. Драгоманов, П. Житецкий, Н. Ковалевский, П. Чубинский, Беренштам и другие. Наш миргородский кружок преследовал цель самообразования и взаимной помощи. Вскладчину кружок выписывал лучшие журналы, удавалось получать и такие издания, как «Вперед» Лаврова, «Набат» Ткачева, сочинения Герцена, а равно и революционные брошюрки: «Хитрая механика», «Сказки о 4-х братьях» и др. Читались в кружке больше статьи по политической экономии и статистике.
Пятилетняя моя студенческая жизнь в Киеве прошла в усиленных занятиях медициной. Профессора тогда на медфакультете были хорошие. Память о таких, например, как Караваев, Коломнин, В.Т. Покровский, О. Афанасьев и некоторые другие, для нас и теперь незабвенна.
Работали мы также в своем миргородском кружке, всегда посещали и общестуденческие сходки, происходившие тогда в зале нашей студенческой столовой (на Б. Васильевской ул., дом Вереденко).
Собирались сюда студенты всяких направлений, прения были нередко страстные и бурные. Здесь можно было встретить народников — Стефановича, Бохкановского, А. Михайлова, Колодкевича, Кеблеца, Аксельрода и др., впоследствии сделавшихся народовольцами. Часто на этих сходках дебатировался вопрос: следует ли учащейся молодежи бросать университет и «идти в народ» для пропаганды социализма? Помню, как на одно из таких собраний явился со своею речью Пихно (впоследствии редактор консервативного «Киевлянина», а потом и тов. Министра финансов). Он резко восставал против движения учащейся молодежи «в народ» для пропаганды социализма, говоря, что темная крестьянская масса не селе не признает ее своими благодетелями как элемент ей чуждый, сторонний и «панский». Он доказывал, что для достижения блага в стране нужно, чтобы каждый гражданин ее нес свои общественные обязанности честно и добросовестно и заботился о просвещении крестьянского населения.
Вообще блага в стране можно, по словам Пихно, достигнуть только мирным путем и постепенно. Молодежь социалистического направления, особенно П. Линтварев (потом видный земский деятель на Харьковщине), страстно возражала, и Пихно со своею «постепенностью» сходкой был освистан… Помню еще, как один студент — Кривицкий — настаивал на том, чтобы «уходящая в народ» молодежь непременно бы ассимилировалась там сразу с крестьянством и занимала бы в селах профессии и должности, к которым простой народ имел бы наибольшее прикосновение. Селились бы, например, в качестве ремесленников, торговцев, учителей, фельдшеров, волостных писарей и даже священников. Сам Кривицкий, как окончивший ранее полный курс духовной семинарии, бросил университет и по его ходатайству епархиальным начальством был рукоположен в священника на село и там, пользуясь всяким случаем, например, поминальным обедом по покойнику, начинал в беседах с крестьянами развивать революционные идеи. Кончилась эта пропаганда священника для него очень скверно. Крестьяне о речах его сообщили уряднику, а сей последний — высшему начальству. Батюшку арестовали и сослали.
В первой половине 70-х годов, когда я учился в Киевском университете, студенчество и вообще всю лучшую русскую общественность очень волновало и возбуждало восстание против Турции в Герцеговине и Боснии, которое тогда широкой волной разлилось по всему Балканскому полуострову. Борьба за свободу, независимость и человеческие права шла там неравная. То, что сообщалось тогда в печати о турецких зверствах, было полно ужаса и кровавых драм, совершавшихся в родственных нам славянских народностях. От этих зверств и трагизма пахло дымом костров, и сами прочтенные страницы, казалось, слипались от крови и слез несчастных борцов за гражданскую свободу.
На защиту угнетенных
Русское общественное мнение всех оттенков печати требовало защиты угнетенных. Сотнями и тысячами шла тогда наша молодежь добровольцами в Сербию и Болгарию, в воздухе носилось близкое объявление Россией войны Турции. Добровольцами пошли на Балканы и наши социалисты из молодежи, например Кравчинский (Степняк) — впоследствии убийца шефа жандармов ген. Мезенцева. Студент Виктор Малинка (уроженец Миргородщины) формировал в Одессе отряды добровольцев из молодежи и возился там с болгарскими и сербскими эмигрантами, в числе которых был известный потом Стамбулинский.
/25_m/25_m.jpg) Уже с ранней осени 1876 года, а особенно в октябре, в Киеве заметны были приготовления к войне. По улицам постоянно сновали повозки, отправляемые к вокзалу с боевыми снарядами, патронами и продовольственными запасами. Вся университетская площадь, где ныне сквер, заполнялась ежедневно массой лошадей, которым комиссиями производился осмотр и набор. Мимо университета то и дело проносились простые деревенские телеги, наполненные запасными нижними чинами, призывавшимися в ряды войск.
Уже с ранней осени 1876 года, а особенно в октябре, в Киеве заметны были приготовления к войне. По улицам постоянно сновали повозки, отправляемые к вокзалу с боевыми снарядами, патронами и продовольственными запасами. Вся университетская площадь, где ныне сквер, заполнялась ежедневно массой лошадей, которым комиссиями производился осмотр и набор. Мимо университета то и дело проносились простые деревенские телеги, наполненные запасными нижними чинами, призывавшимися в ряды войск.
В стенах университета также шли, незаметные для публики, усиленные приготовления, и учащаяся медицинская молодежь последнего курса готовилась стать участником и свидетелем кровавых драм. В октябре и ноябре 1876 г. шли выпускные экзамены.
В это же время некоторые проректора читали нам повторные курсы по полевой хирургии, внутренним болезням и фармакологии. Профессор В.Т. Покровский в своем повторительном курсе особенное наше внимание обращал на болезни, постоянно встречающиеся в войсках во время войны. Лекции его о тифах, дизентерии, чуме, кавказских и дунайских лихорадках и прочих войсковых болезнях были чрезвычайно обстоятельны, увлекательны и талантливы. Все киевские больницы, где только лечили тифозных больных, были посещены нами, и Василий Тимофеевич, со свойственной ему простотой изложения и талантливостью, демонстрируя каждый случай, читал нам дифференциальную диагностику. При усиленной и постоянной работе, при беззаветной преданности делу, он сам сделался жертвой брюшно-тифозной инфекции. Умер, не успев проводить нас на войну, куда и сам был назначен на ту должность при главной квартире, которую потом занял его учитель, незабвенный С.П. Боткин.
22 декабря 1878 года подписаны были наши лекарские дипломы, а 30 января 1877 года мы все были зачислены в действующую армию, и я попал на Кавказ. Быстро выдано было нам путевое довольствие с обязательством немедленно обмундироваться и выехать в места назначения. Накануне отъезда устроились товарищеские кружки, на которых шло трогательное прощание уезжающих в кавказскую и дунайскую армии товарищей. Разлука моя с дорогим мне другом А.И. Симоновым, назначенным в дунайскую армию, с которым я много лет просидел на одной университетской скамье и всю почти студенческую жизнь прожил в одной комнате, разделяя все студенческие материальные невзгоды, особенно для меня была тяжела. Почему-то чувствовалось, что мы разлучаемся навсегда и что больше не увидимся. Предчувствие, к горькому моему сожалению, сбылось. Он, полный здоровья и сил, умер в Зимнице от сыпного тифа, и имя его первым красуется на каменной глыбе памятника, сооруженного на полях в Болгарии на средства русских врачей в память товарищей, безвременно погибших на войне. Вот что мой товарищ писал на Кавказ незадолго до своей болезни: «…сначала кое-что работалось, думалось, что из работы что-нибудь выйдет, теперь же у меня 270 больных, из которых человек 70 больны сыпным тифом, лежат они в вонючих, грязных бараках, скучены так, что чуть не лежат один на другом; воздух в помещениях невозможный. Все меры, принимаемые для эвакуации больных и дезинфекции помещений, недостаточны и разбиваются от недостатка средств для того и рабочих рук… Вообще мне здесь скверно, очень скверно…» Нисколько не удивительно, если эта полная любви к делу и энергии, в высокой степени честная натура, при таких невыносимых условиях и нравственных угрызениях, безвременно свалилась в могилу!
Едущие на Кавказ, в том числе и я, условились съехаться в Харькове, оттуда на другой день поездом отправились на Владикавказ. Весь путь туда проведен был в дружеской товарищеской семье; все были веселы и исполнены желания немедленно же по приезде к месту назначения приступить к работе. Никакая мрачная мысль не закрадывалась в наши помыслы. Умереть от огнестрельной раны или быть убитым на поле сражения мы и не думали, т.к. нас учили, что военно-лечебные заведения и перевязочные пункты должны располагаться на далеком расстоянии от линии боя. От эпидемических же болезней — тифов, дизентерии и проч. заболеваний, всегда бывающих во время войны, надеялись защититься личными предосторожностями. Все мы только чувствовали, что предстоит испытать много лишений, соединенных с походной и бивуачной жизнью, быть может, и на боевой позиции. Последнее для многих из нас оправдалось…
Ординатор подвижного дивизионного лазарета
В начале апреля в Озургет и его окрестности стягивались почти все войска нашего Рионского отряда. Орудий было 64. Стянуты были войска 41-й пехотной дивизии, некоторые части 19-й дивизии, 1-й кавказский стрелковый батальон, два батальона севастопольцев, 2 — кубанцев, 2-й кавказский саперный батальон, кутаисский конно-иррегулярный полк и милиционеры грузинской и гурийской дружины. Такое сосредоточение ясно указывало, что характер действия нашего отряда будет не оборонительный, а наступательный. 11 апреля приехал в Озургет помощник главнокомандующего кавказской армии князь Святополк-Мирский и привез инструкции для действий отряда. О характере их, однако, никому и ничего не было известно, но все чувствовали, что час выступления войск настал. Молодые офицеры были особенно возбуждены и жаждали движения вперед на давно желанный Батум и сильную крепость Цихисджвари, воспетую еще в грузинском эпосе времен царицы Тамары.
В тот же день, т.е. 11 апреля, я был вызван к отрядному врачу, который заявил мне, что я назначен ординатором подвижного дивизионного лазарета 41-й пехотной дивизии, а потому немедленно должен явиться к дивизионному врачу (Марциновскому), т.к. лазарет может скоро выступить. При этом приказывалось мне не брать вещей более одного пуда и сейчас же запастись верховой лошадью. На мое заявление, что о сем последнем нельзя и думать, ибо за такое короткое время трудно приобрести лошадь, он посоветовал просить дивизионного врача устроить меня на лазаретной дивизионной линейке. Дивизионный врач так и сделал, но повторил тоже, чтобы больше пуда вещей с собой не брать. Мое положение было очень затруднительное, т.к. со мною был чемодан с книгами и с вещами, и я не знал в чужом городе, как быть с этими книгами, тем более, что там, кроме медицинских книг, были и такие, как «Вперед» Лаврова и несколько революционных брошюр. Однако отобрав некоторые книги, в том числе и запретную литературу, и некоторые вещи, а остальное укупорив в чемодан, сдал его на хранение одному содержателю духана (трактира) за 5 рублей в месяц…
Наш дивизионный лазарет (41 пех. див.) развернул свои палатки у подножия одного из холмов, на вершине которого расположился штаб. Палатки были обыкновенные госпитальные, на 16 человек каждая. Кроватей или топчанов на первых порах, конечно, не было. Обычно на землю клали мягкие древесные ветки и прутья, на них — тюфяки, набитые сухими листьями. Не скоро потом появилась солома. Палатки эти быстро наполнялись ранеными и больными. Мне было поручено заведовать отделением раненых, и для меня с первых же дней открытия лазарета началась трудная и неустанная работа. Трудность ее усугублялась постоянным сознанием своей малоопытности в таком деле, как самостоятельное занятие военно-полевой хирургией.
А тут еще постоянно подвертывались случаи, которые меня, молодого врача, ставили в тупик. Особенно затрудняло меня вынимание пуль, цепко застрявших в костях. Но это было сначала. Потом на этом деле я так напрактиковался, что, оставляя месяца через полтора лазарет, вывез целую коллекцию вынутых мною пуль, как трофей робкой моей хирургической работы в отряде. Труд мой, помимо нравственных волнений, являлся тяжелым еще потому, что раненых было много, а перевязывать их нужно было самому, т.к. ротным фельдшерам доверять это дело трудно, сестер же милосердия в первое время в лазарете не было. Эти перевязки доставляли мне много физических мук, т.к. каждого из раненых приходилось перевязывать, стоя на коленях на земле (вследствие отсутствия кроватей), переползая от одного к другому. После более или менее сложной перевязки, бывало, встанешь на ноги, с трудом и болью разогнешь спину, а впереди еще целый ряд палаток, откуда раздавался стон и где с нетерпением ждали тебя страдальцы эти — жертвы войны.
Работа начиналась с 7 часов утра и длилась до 2–3 часов дня, а в 6 часов вечера начинался вновь осмотр больных и раненых. Для перевязок употребляли в то время исключительно только 2% раствор карболовой кислоты, которым смачивались компрессы из мягкой марли, закрывались они лощеной бумагой и покрывались обильным количеством ваты. Все это забинтовывалось. Метод Листера тогда был уже известен. Операционный стол находился в особой маленькой палатке и употреблялся только для случаев операционных и для наложения гипсовых повязок. Впоследствии по настоянию врачей для раненых были устроены импровизированные нары на жердях, переплетенных тонким хворостом, установленные на рогатках. Производить перевязки тогда стало легче. Так тянулась работа дни за днями.
Учение хирурга Пирогова
28 апреля я не мог не заметить в нашем дивизионном лазарете необычайной суетливости и приготовлений; разбито было еще несколько палаток, аптека в изобилии приготовляла бинты, заготовляла повязки, готовились куда-то линейки; отрядного врача часто приглашали в штаб, а равно и дивизионного врача. Все говорило о предстоящем наступлении, но когда оно будет, никому не было известно. Возвратившийся из штаба дивизионный врач объявил мне, что я с рассветом должен буду отправиться с транспортом раненых в Озургет, чтобы все палатки лазарета освободить по случаю имеющего быть боя 29 апреля.
Я очень был обрадован этой командировкой, т.к. давно лелеял желание увидеть жизнь за Мухаэстатской позицией, где, кроме войск, гор и долин, лесов и дождей, грязи, сырости и походной палатки, я так давно ничего не видел другого и где, кроме стонов раненых, трескотни ружейной и грохота орудий, ничего не слышал. Я уже заранее испытывал удовольствие, с каким выеду в Озургет и увижу там жизнь мирного времени, где люди живут по-прежнему, не прекращая обычных своих занятий и не терпя тех лишений, какие мы испытываем на Мухаэстате.
Но это были мечты!.. В час ночи, не успел я еще потушить свечу в своем жилище-линейке, как был приглашен отрядным врачом, который объявил мне, что он назначает меня в правую колонну отряда, наступающего рано утром на турецкие высоты Лоцу-бане, и что немедленно я должен туда отправиться. Цель этой командировки — устроить при колонне во время сражения передовой перевязочный пункт. Тут же Р.И. Ненсберг (отрядный врач) сообщил мне, что врач, назначенный раньше в эту колонну, заболел и поедет вместе с ранеными в Озургет вместо меня. Быстро меня снарядили в поход, дав из лазарета лошадь, ящик с перевязочными средствами и аптекой, 24 санитаров-носильщиков с носилками и одного фельдшера. Вот весь персонал будущего перевязочного пункта. Палатки не дали.
Я был крайне смущен таким назначением, но смущен не тем, что мечты о поездке в Озургет разлетелись, а моей полной неподготовленностью к тому трудному и ответственному делу, которое на меня возлагалось. Что такое передовой перевязочный пункт во время сражения? Это первая врачебная инстанция, куда раненые доставляются на носилках прямо с поля сражения, а легко раненые приходят сами. Для удобства, возможно, быстрой переноски раненых на эти пункты последние должны быть расположены как можно ближе к полю сражения и на месте, достаточно укрытом и защищенном от неприятельских выстрелов. К сожалению, это последнее требование при скорострельных турецких ружьях было трудно достижимо. Приходилось отодвигать эти пункты на расстояние 2 и более верст от поля сражения. Этим же в высокой степени затруднялась своевременная уборка раненых с поля битвы и доставка их на перевязочный пункт.
В чем состоит оказание помощи раненым на этом пункте? Велика заслуга в данном случае нашего замечательного хирурга Н.И. Пирогова, который первый установил точные правила оказания помощи раненым на означенных пунктах. Как трудно было установить эти правила, можно видеть из того, что в течение многих столетий, при всех кровопролитных войнах, на перевязочных пунктах царил невообразимый хаос среди криков и стонов массы собравшихся здесь раненых, при потрясающем зрелище окровавленных и изувеченных жертв войны.
Но виноваты ли были в этом врачи, не умевшие и не знавшие, как распределить свою деятельность на перевязочных пунктах? Для этого требовался целый ряд опытов и наблюдений из боевой практики войны; требовался могучий ум человека, который в состоянии был бы установить дисциплину и порядок в невообразимом хаосе кровавых сцен войны на перевязочном пункте. Взгляды, высказанные Пироговым по этому поводу, приняты теперь всюду и составляют драгоценное достояние науки. Следуя указаниям его, врачи, работающие на перевязочных пунктах, должны лично распределить занятия между собою: одна группа производит сортировку раненых, разделяя их по степени ранения, другая группа оперирует в безотлагательных случаях, третья накладывает неподвижные повязки, подготовляя раненых к транспортировке, четвертая группа перевязывает легкораненых.
Нужно заметить, что врачи, работающие на перевязочных пунктах, безусловно должны быть надлежащим образом подготовлены к своей трудной деятельности, часто требующей от них неестественно огромного напряжения сил и редкого присутствия духа, выносливости и самообладания.
Я знал, что германский хирург Фишер говорил, что из всех задач врача во время войны, бесспорно, самая трудная — на перевязочном пункте. «Он должен, — говорил Фишер, — подавать здесь помощь, не имея в своем распоряжении часто тех средств, которыми обыкновенно располагает, он должен действовать решительно и сознательно, не медля и не имея возможности с кем-либо посоветоваться в трудных случаях. Он должен оставаться спокойным среди треволнений битвы и перед лицом смерти; он должен иметь выдержку и сохранять бодрость и внимательность до конца, сколько бы ни накопилось работы, и как бы ни была она затруднительна».
Все эти требования к врачу перевязочного пункта меня, совершенно неопытного и в первый раз познакомившегося с ружейными выстрелами в Богильской топи, смущали и подавляли. Ясно было видно, что в таком серьезном деле я предоставлен сам себе и что за всякий беспорядок на перевязочном пункте вся ответственность падает только на меня одного. Других врачей ведь у меня не было. Хотя отрядный врач меня и утешал, что в правой колонне большой работы не будет, т.к. колонна эта назначена исключительно только для отвлечения неприятеля от левой нашей колонны, которая и будет действующей и наступающей, но я с грустным и тяжелым чувством отправился в бой 29 апреля.
На линии огня
Выйдя совершенно неожиданно из зигзага лесной просеки, мы очутились на открытой поляне, и я увидел, как быстро понеслась наша артиллерия, а рассыпавшаяся пехота с криком «ура!» быстро исчезала, спустившись вниз за возвышение, на котором полковник Шавров располагал свои 9-фунтовые орудия. Я с санитарами поспешил к месту расположения батареи и был в большой нерешительности, где мне избрать место для перевязочного пункта. Где находился штаб нашей колонны и на каком расстоянии от меня была в это время линия боя, я не знал. Знал только, что шел в лощине за тем возвышением, где развернулась батарея полковника Шаврова. Ориентироваться мне вообще было трудно, и я решил перевязочный пункт устроить близ батареи, где пролегала дорога, а параллельно с нею шла канава, точно такая, как у нас на Украине когда-то возле больших столбовых дорог. Тут мы и обосновались, присев отдохнуть, пока начнется наша работа.
Началась пальба из орудий, грохот которых на столь близком расстоянии для меня, слышавшего в первый раз, был невыносим, ружейная пальба внизу за нашей батареей шла неумолкаемая. Сидя в ожидании раненых, я заметил, что верховая моя лошадь, пасшаяся возле нас, постоянно и быстро поднимает голову и фыркает, как будто чего-то пугаясь. Я не мог догадаться, в чем дело, и сказал санитару, сидевшему рядом со мною, чтобы он отвел лошадь дальше. Санитар, отбросив руку несколько назад и опершись ею о землю, хотел встать, чтобы исполнить мое приказание, но в этот момент страшно побледнел, сел и начал клониться в сторону. Я предположил, что это обморок, но к ужасу своему увидел струящуюся из рукава его кровь. Тут только сообразил, что он ранен. В это время я заметил, что стебелек высокой травы на моих глазах был сбит пролетевшей пулей. Ясно стало, что и лошадь моя неспокойна вследствие часто пролетавших возле нее пуль.
Очевидно, указанное мною место для перевязочного пункта избрано неудачно, и сразу предстала предо мною вся тяжесть ответственности моей за этот выбор. Немедленно я командировал унтер-офицера в штаб колонны доложить, что на перевязочном пункте ранен санитар, и просил указать более безопасное место для перевязочного пункта. Всем санитарам я приказал сейчас же подняться немного вперед и вправо от нас и расположиться под очень толстым и сильно развесистым деревом, стоявшим рядом с батареей. Дерево это по толщине своей могло служить до некоторой степени прикрытием санитарам не только от неприятельских пуль, но и от паливших лучей солнца. Сам же я с одним из санитаров остался на месте и занялся перевязкою его. Помню, что во время раздевания раненого я испытывал чувство нравственной подавленности из боязни, что, быть может, санитар ранен смертельно. Страха и боязни, что и тебя сейчас могут убить или ранить, не было. Когда осмотрел раздетого раненого, то до слез обрадовался, увидев, что ранение у него легкое. Пуля пронизала только мягкие части правого плеча, не тронув ни кости, ни крупного сосуда и, вылетев, контузила правый бок.
Раненый скоро очнулся от обморока и отправлен был после перевязки в дивизионный лазарет. К этому времени возвратился посланный из штаба и сообщил приказание командующего колонной, что «лучшего места для перевязочного пункта нет и что приказано оставаться на том же месте». Я просил доложить командующему, что мною избрано уже другое место, более безопасное для перевязочного пункта. Адъютант ускакал. Я, отойдя от дерева вперед шагов на 10, увидел, что стою на самом возвышенном месте, что все поле сражения правой колонны отсюда видно как на ладони. Тут же убедился, что действительно лучшего места для перевязочного пункта при дальнобойных ружьях турок найти мне в этой местности было невозможно. Я увидел, что от дерева нашего и от батареи спускается довольно крутой уклон к реке Ачкуа, за которой находятся высоты Хуцубань, где шел ожесточенный бой, не умолкавший до 11 1/2 часов дня…
Ко мне начали подносить раненых. Предсказание отрядного врача, что в правой колонне «особо дела мне не будет», таким образом, не оправдалось. На этот раз правой колонне пришлось служить не только для отвлечения турецких сил, но и действовать самостоятельно и взять самой несколько Хуцубанских высот при незначительной при том потере людьми. Всех легкораненых из колонны прямо направляли в дивизионный лазарет. Ко мне попадали более тяжелые, которых нужно было осмотреть, перевязать. И еще написать на карточке, куда он ранен, какое оказано пособие, означить имя, фамилию и проч. Это писание больше всего меня затрудняло, т.к. люди стонали, плакали, просили оказать им пособие. Санитары утоляли их жажду. Я же торопился с наложением повязок и отправкой раненых в лазарет. Самые трудные из раненых, конечно, были со сквозными ранениями груди. Их приходилось осматривать раньше всего и немедленно отсылать на носилках в лазарет, отстоявший от перевязочного пункта верстах в 4–5. Раздирающие душу картины страданий и мучений, от которых изнемогали обессиленные раненые, превосходили всякое описание, я чувствовал, что нервы у меня потрясены, но мужество не оставляло и не ослабевало, сердце обливалось кровью, но глаза были сухи…
Но вот поднесли убитых. Все при этом бывшие молча, как один человек, сняли шапки и, осенив себя крестом, смотрели на лежавшие рядом тела. Они лежали со скрещенными руками на груди. Добрые товарищи позаботились, очевидно, об этом. Среди них особенно поразил меня один смертельно раненый, но продолжавший еще слабо дышать. Пуля попала ему в левый висок, разбив височную и частично теменную кости. Левое глазное яблоко вышло из глазной впадины, лицо было мертвенно-бледное и раздуто. Я видел, как санитары несколько раз подходили к нему и каждый раз снимали шапки, крестились. Очевидно, просили бога послать товарищу скорее смерть. Кто-то из санитаров опознал несчастного и назвал его фамилию, чисто украинскую. И вспомнилась мне тогда моя далекая родина, та белая хата, окруженная зеленью, в которой этот несчастный жил и в которой, быть может, остаются теперь одни его жена и дети.
Секретарь госпитального совещания
В войне с Турцией русский народ высоко проявил чувства гуманности: за все время той войны собрано было, например, 12 миллионов рублей и, кроме того, сооружено на средства частной помощи госпиталей на 16 000 кроватей. Многие отдельные имена, особенно имена русских женщин — представительниц Красного Креста, ярко блещут на горизонте гуманных проявлений здесь и заливают потоком света мрак и бедствия войны. Мы, русские, можем гордиться тем, что много блестящих страниц проявлений русской гуманности занесены в историю. Россия всегда была по преимуществу страной гуманной, она много содействовала, например, созыву Женевской конференции и первая уничтожила употребление на войне разрывных пуль (1868 г.), она впервые подняла вопрос на Брюссельской конференции о законах и обычаях войны. В России же много лет назад раздалось веское и громкое слово ко всем странам «сбросить с себя цепи вооруженного рабства и сплотиться истинно мирным союзом»…
В числе врачей госпиталя № 19 мой товарищ по университету А.В. Чаушинский, заведовавший отделением больных с заболеваниями внутренних органов. Он помогал мне при производстве операций, из которых наиболее серьезными были: ампутация конечностей, трепанады Герона и вынимание пуль. Очень часто требовалось наложение гипсовых повязок, особенно у раненых, подлежащих эвакуации в Тифлис.
Кроме ведения отделения больных, я был избран секретарем медицинского госпитального совещания и членом госпитального хозяйственного комитета. В последнем нам, врачам, пришлось вести сильную борьбу с персоналом, стоявшим во главе хозяйственной части госпиталя. Борьба эта иногда обострялась и не ограничивалась одними препирательствами в комитете, а подавались рапорты и дальше. Эта борьба врачей, особенно молодых, с госпитальными хозяевами настолько была распространена в кавказских госпиталях, что высшее начальство прислало генерал-контролера для обревизования кавказских военных госпиталей. Последний после ревизии этой донес главнокомандующему кавказской армии о ее результатах. Извлечение из этого донесения потом было разослано во все госпитали секретно для сведения и устранения непорядков. Генерал-контролер, между прочим, писал в своем донесении, «что военно-временные госпитали во всех отношениях лучше постоянных, что закоренелые порядки последних, вредные во всех отношениях, возможно изменить лишь огнем, т.е. уничтожить госпитали и устроить их на новых началах. Подтверждением этого, — говорил далее генерал=контролер, — служат беспорядки и злоупотребления в Александропольском, Ахалцихском, Тифлисском и Кутаисском госпиталях. В Тифлисском, например, обнаружены: недозволительная нечистота, смертность поразительно высокая, содержание на довольствии 20 человек, в том числе 18 женщин, которые не жили в госпитале, большой беспорядок в хранении и расходовании имущества. Не во всех госпиталях белье можно назвать сносным, особенно нехороши простыни: кроме продольных швов, имеют они и поперечные, полотнища разной доброты и имеют клейма приемных комиссий разных годов на одной и той же вещи. Установленный порядок приема продуктов и варки пищи не выполняется. Продукты доставляются несвоевременно. Вообще в госпитальном деле, как оно стоит здесь, не видно хозяина, нет общего руководящего начала».
Земство и медицина
По окончании войны я был командирован в С.-Петербургскую военно-медицинскую академию на 1878–79 учебный год для научного усовершенствования. Слушал лекции и занимался в клиниках профессоров того времени С.П. Боткина, В.М. Тарновского, Быстрова и Горивца.
Находясь в академии, я на каникулярное время был командирован в Гельсингфорс в военно-санитарно-ассенизационную комиссию и временно нес обязанности секретаря при Финляндском окружном военно-медицинском управлении, а в январе 1879 г. взял месячный отпуск и поехал в мой родной Миргород.
Здесь я узнал о жестокой эпидемии дизентерии не только в Миргородском уезде, но и во всей Полтавской губернии и вообще на юге России.
Я собрал тогда цифровой материал о размерах заболеваний этой болезнью и об ужасающих размерах вымирания от нее детского крестьянского населения. В некоторых селах Миргородского уезда смертность превышала рождаемость и население уже регрессировало в своем росте. Эти поразительные цифры смертности детей наводили тогда самое тоскливое, угнетающее впечатление. Оказалось, что дифтерит в Миргородском уезде тянется с ноября 1875 года и до декабря 1878 года. Заболевших дифтеритом в уезде 14 598, умерло же от него 6224, т.е. 41,6 %. По отношению ко всему населению уезда число заболевших дифтеритом составляет 12 %, а умерших — 5,5 %. Если сопоставить цифру смертности детей от общих заболеваний и дифтерита с числом ежегодно рождающихся в уезде, то получим цифры удручающие: в 1877 году, например, родилось в уезде 6158, умерло же от общих болезней 5176 и от дифтерита 2292, т.е. убыль населения в один год этот достигла 1308. Так было из года в год, и цифры смертности выносили роковой приговор над детским возрастом целого уезда. Эпидемия эта была жестокая и разливалась по всему уезду. В иных семьях обычно умирала половина из заболевших дифтеритом…
Продолжение следует
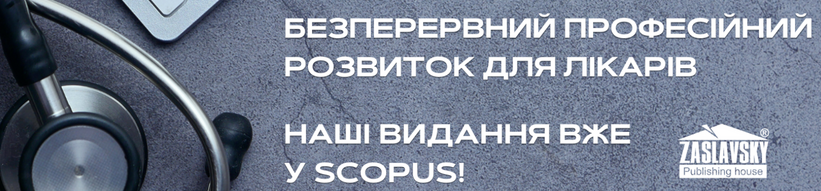

/22_m/22_m2.jpg)
/23_m/23_m.jpg)
/24_m/24_m.jpg)