Газета «Новости медицины и фармации» 15 (509) 2014
Вернуться к номеру
Марина Цветаева Трагедия поэта
Авторы: Лихтенштейн Исанна Ефремовна
Разделы: История медицины
Версия для печати
Статья опубликована на с. 24-27 (Мир)
/24_m/24_m.jpg) Автор — Лихтенштейн Исанна Ефремовна, кандидат медицинских наук, киевлянка, из семьи врачей. Отец — профессор Киевского мединститута, мать — врач. Окончила Киевский медицинский институт. Работала научным сотрудником в Украинском НИИ клинической медицины имени акад. Н.Д. Стражеско, перепрофилированном впоследствии в Украинский НИИ кардиологии. Автор свыше 120 научных статей по проблемам кардиологии и литературно-медицинской тематике.
Автор — Лихтенштейн Исанна Ефремовна, кандидат медицинских наук, киевлянка, из семьи врачей. Отец — профессор Киевского мединститута, мать — врач. Окончила Киевский медицинский институт. Работала научным сотрудником в Украинском НИИ клинической медицины имени акад. Н.Д. Стражеско, перепрофилированном впоследствии в Украинский НИИ кардиологии. Автор свыше 120 научных статей по проблемам кардиологии и литературно-медицинской тематике.
С 1991 года живет в Израиле. Работала по специальности в хайфской больнице «Бней Цион». Публикуется в периодической печати Израиля, Америки и Германии.
Цветаевы — одна из выдающихся семей России, оставивших огромный след в истории страны. И при этом трудно найти семью со столь неоправданно, непоправимо трагической судьбой.
Марине Цветаевой (1892–1941), лучшему поэту ХХ века, по утверждению лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, посвящены многочисленные исследования и жизнеописания. Тем не менее сложный душевный мир поэта по-прежнему остается загадочным и в достаточной мере непонятым.
Трагический финал, случившийся в Елабуге, заставил по-другому взглянуть на перипетии жизни Марины Цветаевой. Как ни горько, осмысление приходит с опозданием.
Известно, что личность любого индивидуума, так задумано природой, складывается из сочетания наследственных факторов и внешних обстоятельств. Что важнее, то, что определяет поведенческие реакции, по сей день служит предметом дискуссий и скрупулезного анализа разными специалистами на пересечении наук./24_m/24_m2.jpg)
Сложная жизнь Марины Цветаевой, на наш взгляд, предопределена наряду с драматическими внешними обстоятельствами в определенной мере наследственными особенностями. Поэтому привожу сведения о родителях поэта с робкой надеждой что-либо прояснить.
Отец семейства Иван Владимирович Цветаев после длительных упорных усилий, подвижнического труда, преодоления неимоверных сложностей создал в Москве Музей изящных искусств, в настоящее время — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сложно вообразить, как сыну бедного священника из деревни Шуя Владимирской губернии удалось достичь европейской известности, стать крупным ученым-филологом, искусствоведом. Первоначально Иван Владимирович предполагал продолжить семейную традицию. Цветаев шесть лет учился в Шуйском духовном училище, после чего еще шесть лет — во Владимирской семинарии. И только после 12 (!) лет учебы в духовном училище и семинарии резко изменил жизнь, поступил на классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, которое окончил в 1870 году. Коротким эпизодом было годичное обучение медицине в университете. Даже из беглого перечисления занятий Ивана Владимировича видно, как серьезно и вдумчиво он относился к выбору профессии, сколько зигзагов пришлось преодолеть в поиске дела всей жизни. Все знавшие Ивана Владимировича отмечают его добрый нрав и полную погруженность в профессиональные заботы, не оставляющие ни на что другое душевных сил.
Мать Марины Цветаевой Мария Александровна Мейн по матери принадлежала к древнему польскому роду Бернацких. В дворянском гербовнике, в шестой его части имеется и родовой герб Бернацких.
На щите, имеющем красное поле, изображена ветвь с серебряной розой. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской короной, на поверхности которой также видна ветвь с розой. Марина Цветаева пишет о гербе: «Герб Бернацких — мальтийская звезда с урезанным клином (— счастья!). Я всегда, не зная, мальтийскую звезду до тоски любила». Из письма Вере Муромцевой–Буниной в 1933 году: «Узнала об отце прадеда (после знакомства в Парижской богадельне с родственниками матери): Александре Бернацком, жившем 118 лет (род. в 1696 г., умер в 1814 г.), застав четыре года XVII в., весь XVIII в. и 14 лет XIX в., т.е. всего Наполеона! Прадед — Лука Бернацкий — жил 94 года. Зато все женщины (все Марии, я — первая Марина) умирали молодые: прабабка графиня Ледуховская (я — ее двойник), породив семеро детей, умерла до 30-ти лет, моя бабушка — Мария Лукинична Бернацкая — 22 лет, моя мать, Мария Александровна Цветаева — 34 л<ет>. Многое и другое узнала, например что брат моей прабабки был кардиналом и даже один из двух кандидатов в папы. В Риме его гробница, та старушка (мне рассказывавшая) видела».
Древний дворянский род матери и священнический — отца отмечала Марина Цветаева в известном стихотворении:
Обеим бабкам я вышла — внучка:
Чернорабочий — и белоручка!
Мария Александровна Мейн осиротела в три с половиной недели, воспитывалась отцом и приглашенной из Швейцарии гувернанткой. Маленькая Маша ладила с гувернанткой, любила отца. Александр Данилович — потомственный дворянин, внесенный в шестую часть (древнее дворянство) дворянской родословной книги Петербургской губернии, а в 1881 году — в третью часть (выслуженное дворянство) дворянской родословной книги Московской губернии. Окончил кадетский корпус. Занимал важные должности в Москве, а 1883–1884 году даже претендовал (или думали, что будет претендовать) на должность Московского генерал-губернатора. Одно время был членом совета Международного банка, директором Московского земельного банка, директором Коммерческого страхового общества. Дружески общался с Андреем Евстафьевичем Берсом, отцом Софьи Андреевны Толстой. Был знаком и с Львом Николаевичем, считавшим его умным и толковым человеком. Впрочем, их личные отношения не сложились. Кроме того, Александр Данилович был обозревателем ряда московских газет, сотрудничал с «Русскими ведомостями». Мейн собрал огромную библиотеку, а также коллекцию античных слепков; и то, и другое подарено им городу. В воспоминаниях детства Марина Цветаева отмечала доброту деда Мейна, почему-то запомнились принесенные им бананы. Так случилось, что коллекцию античных слепков усердно создавал и Иван Владимирович, заказывая и закупая их во время зарубежных поездок для строящегося музея, то есть коллекции деда и отца Цветаевой составили основу нового музея./25_m/25_m.jpg)
Возвратившись из эмиграции, переезжая с квартиры на квартиру, бесприютная, мечущаяся в вечном поиске жилья и заработка Марина Ивановна не раз вспоминала сделанное ее отцом и дедом для России: «Библиотеку, огромную, трудо- и трудноприобретенную, не изъяв ни одного тома, отдал (отец. — И.Л.) в Румянцевский музей. Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так, от нас, Цветаевых, Москве было три библиотеки. Отдала бы и я свою, если бы за годы Революции не пришлось продать» (http://www.cvetaeva.org.ru/chapter-sa-autname-21/)
Мария Александровна Мейн получила прекрасное домашнее образование, знала европейские языки, была разносторонне талантлива. Она замечательно рисовала, занималась живописью у блестящего художника Петра Карловича Клодта, писала стихи, но подлинной страстью была музыка. Мария Александровна очень успешно училась музыке у Н.А. Муромцевой (1848–1909), одной из лучших учениц Николая Рубинштейна, заслужившей похвалу самого П.И. Чайковского. Маше Мейн прочили блестящую карьеру. И только семейные обстоятельства, скорее предрассудки, помешали ей стать профессиональной пианисткой. Юная Мария Мейн влюбилась в женатого (или, уточняют некоторые исследователи, несвободного) молодого человека, что вызвало гнев отца и запрет на продолжение знакомства. Тяжелая травма не прошла бесследно, оказав влияние на последующую жизнь и поведенческие реакции. По воспоминаниям Марины: «Была мать неуравновешенна, требовательна, презрительна, деспотична характером и жалостлива душой». Мария Мейн была из породы натур суровых, приговоривших себя к невезению (Бояджиева Л. Марина Цветаева). В качестве иллюстрации — запись из дневника Марии Александровны: «Разве мы живем? Неужели это жизнь, без смысла, без цели? — Скучно! Я, например, в материальном отношении имею все, чего только можно желать, но все-таки это не удовлетворяет… я хочу жить, а это ведь — прозябание!»
Дом Цветаевых с приходом Марии Александровны из открытого к общению вечно поющей Варварой Иловайской (первая жена Цветаева) превратился в строго регулированную обитель спартанского типа. Обе дочери — Марина и Анастасия — получили поначалу домашнее образование, а затем учились в известной гимназии Брюхоненко. Марина в 5–6 лет начала не только рифмовать на русском языке, но и складывала стихотворные строки на французском и немецком языках. По воспоминаниям Марины, мать ею гордилась, а любила Анастасию, Асю. «Недолюбленность» мучила Цветаеву с детства. Не важно, так ли было — так воспринималось и больно ранило. Мария Александровна с ненужным упорством заставляла Марину заниматься музыкой, дабы дочери удалось то, что не получилось у нее. Марина была разносторонне талантлива: сохранились ее единичные рисунки, указывающие на незаурядную одаренность.
Несмотря на большие способности к музыке, Марина не хотела часами сидеть за фортепиано, рифмы постоянно бродили в голове, слагались первые строфы. Марина боготворила мать, старалась ее не огорчать, но призвание было неумолимо, не оставляя выбора.
Болезнь матери, выезд для лечения в Европу на несколько лет в корне изменили привычный московский уклад, разорвали начавшиеся у 8–10-летней Марины дружественные отношения. Сестрам приходилось менять учебные заведения, жить и учиться в интернатах, каждый раз привыкать к новым преподавателям, соученикам, местным особенностям (выделено мною. — И.Л.). Хорошее знание языков избавляло от словесных преград, но не избавляло от душевных. Для девочки с тонкой душевной организацией перемещение по странам с больной матерью, сохранявшей прежние установки, требовало большого напряжения. Еще больший стресс случился после смерти матери. Прежняя жизнь рухнула. Отец, занятый музеем, подавленный смертью жены, не смог создать семейную, уютную атмосферу в доме. По свидетельству родственников и друзей, девочки пользовались почти неограниченной свободой. Так, Иван Владимирович не знал о поездке Марины и Аси на похороны Льва Толстого, попросту не заметил.
В 1910 году Марина втайне от отца издала на свои деньги первый стихотворный сборник «Вечерний альбом». В московском издательстве «Мусагет» Марина Ивановна познакомилась с Максимилианом Волошиным и подарила ему только что вышедший стихотворный сборник. Через день он появился в доме Цветаевых, гадал по руке… Посвятил юной поэтессе строки:
Раскрыв ладонь, плечо склонила…
Я не видал еще лица,
Но я уж знал, какая сила
В чертах Венерина кольца.
И раздвоенье линий воли
Сказало мне, что ты, как я,
Что мы в кольце одной неволи,
В двойном потоке бытия.
Волошин написал о «раздвоеньи линий воли» и «двойном потоке бытия». Как не поверить в особость поэта, в дар предвидения!
Изданный тиражом в 500 экземпляров в типографии А.И. Мамонтова «Вечерний альбом» стал известен поэтам и любителям поэзии. Цветаева посвятила книгу памяти Марии Башкирцевой и ее знаменитому «Дневнику». По сути, «Вечерний альбом» явился объяснением в стихах с молодым поэтом, переводчиком Львом Эллисом-Кобылинским (1879–1947), был своеобразным дневником юной Цветаевой.
Появились положительные рецензии. Кроме Макса Волошина откликнулся и Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии»: «Марина Цветаева (книга «Вечерний альбом») внутренне талантлива, внутренне своеобразна… Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например, детская влюбленность: ново непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. И как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов…» В рецензии Мариэтты Шагинян «Самая настоящая поэзия» через год после выхода первого цветаевского сборника отмечается: «…отсутствие риторики, обдуманность и самостоятельность в выборе тем; почти удивительное для начинающего поэта отсутствие заметных влияний модернистов. Видна хорошая поэтическая школа, и при всем том нет ни заученности, ни сухости наших молодых поэтов». В целом положительный отзыв написал и строгий В. Брюсов. Но некоторые замечания огорчили молодого поэта, и в новом сборнике «Волшебный фонарь» (1912) она ему ответила.
Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Цветаева быстро стала читаемой, знаменитой, известной. Дружба с Волошиным, пребывание в гостеприимном доме в Коктебеле, нежные отношения с матерью поэта, знаменитой Пра, раскрепостили юную Цветаеву, позволили ощутить многоцветие жизни. Здесь же, в Коктебеле, она встретилась с молодым, красивым, романтичным Сергеем Эфроном. Семья Эфрон-Дурново, ее идеалы, верность народовольчеству, бескомпромиссность не могли не взволновать воображение романтичной, свободолюбивой девушки. Марина полюбила благородного юношу, поверила в него, сочла встречу судьбоносной. Вскоре они поженились. Больной туберкулезом Сергей продолжил лечение, окруженный заботливым уходом жены. При всех сложностях их жизненного пути, увлечениях, раздорах, драматических встречах после разлук, в чем-то главном для них они оставались верны друг другу. Друг Цветаевой, журналист, переводчик Марк Слоним (1894–1976) в написанных после смерти Марины Ивановны воспоминаниях подчеркивал: «Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа».
Революция, гражданская война, попытки найти без вести пропавшего Сергея, воевавшего в Белой армии, тревога за него занимали мысли и чувства Марины Ивановны. Когда стало известно, что Эфрон жив и находится в Чехии, Цветаева без долгих размышлений эмигрировала из большевистской России. Так же она поступила спустя годы, реэмигрировав вслед за мужем, вернувшимся в СССР. Цветаева сознавала трагичность возвращения. Она шла за мужем… Вместе с тем вообразить, что случится после возвращения, не дано было и Марине Ивановне с ее даром предвидения… Неполное перечисление крутых поворотов в жизни Цветаевой, трагических испытаний, выпавших на долю одного человека, вызывает неподдельный ужас. А если помножить все это на ее неприспособленность, нужду и личностные характеристики, то ситуация трудно представима для любого человека.
Еще в сентябре 1923 года Марина Ивановна писала другу, литературному критику Александру Бахраху (1902–1985): «К имени моему — Марина — прибавьте: мученица». «Ведь я не для жизни. У меня все — пожар! — Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!) сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, ни-че-го. Все спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я — Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей... Что мне делать — с этим?! — в жизни». Нет оснований сомневаться в том, какие бури одолевали Марину Цветаеву, как трудно было достичь лада с самой собой! Те же мысли неоднократно звучали в переписке поэта. Вот отрывок из письма мужу: «Ах, Сереженька! Я самый беззащитный человек, которого знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит». В том же 1923 году Сергей Яковлевич пишет Максимилиану Волошину: «Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным».
Птица Феникс я, лишь в огне горю,
Поддержите высокую жизнь мою.
Высоко горю и горю дотла,
И да будет Вам ночь светла.
Эмиграция, даже внешне успешная, требует пластичности, умения принимать новые условия, усвоить неизвестные прежде простейшие жизненные коды. Каждый эмигрант любой волны, в любой стране это хорошо прочувствовал на себе. Творческие люди, особенно гуманитарии, в отличие от специалистов технических профессий ощущают сложности в большей мере. Во-первых, в иноязычной среде они, их профессии мало востребованы, во-вторых, мало кто в состоянии полноценно творить не на родном языке, даже при свободном владении языком страны проживания. Не зря существует понятие «родной язык». Кроме того, эмигрантское сообщество, как правило, замкнутое, в силу чего больше других раздираемо противоречиями, склоками, завистью. Для всех эмигрантов актуальны самоидентификация, сохранение статуса, постоянный поиск источника дохода, что также создает драматические коллизии.
Что говорить о поэте состоявшемся, идущем собственным творческим путем, не примыкающем ни к одному течению, а создающем свой поэтический почерк, свою «незарастающую» стезю?!
Если вдуматься, Марина Цветаева прожила жизнь вопреки обстоятельствам, сохранила индивидуальность, отстаивала свои представления, не примыкала ни к кому… Из письма Марины Цветаевой к Р.Н. Ломоносовой от 11 марта 1931 г.: «Да, не принадлежу ни к какому классу, ни к какой партии, ни к какой литературной группе никогда. Помню даже афишу такую на заборах Москвы 1920 года. Вечер всех поэтов. Акмеисты — такие-то, неоакмеисты — такие-то, имажинисты — такие-то, исты — исты — исты — и в самом конце, под пустотой: — и — Марина Цветаева (вроде как — голая!). Так было, так будет…»
Положение Марины Цветаевой осложнялось и тем, что практически единственным источником заработка являлись ее редкие публикации; короткое время — чешская стипендия и поддержка благотворителей. Сергей Эфрон часто подолгу болел, лечился в санаториях, до этого учился в университете и почти ничего не зарабатывал. Приходилось часто менять квартиры и страны. За годы эмиграции Цветаева жила в Берлине (недолго), Чехии и Франции. Пожалуй, комфортнее всего было в предместьях Праги: друзья, единомышленники, природа…
Одиночество, как ни грустно, преследовало поэта, она жила внутри этого одиночества. В сущности, об этом писала Марина Ивановна поэту и критику Ю. Иваску (1907–1986) в апреле 1933 года: «...ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с «политиками», а я и с писателями — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака...» Думается, речь идет не о реальном одиночестве (муж, дочь, любимый сын Мур), а о восприятии Цветаевой. Именно это важно!
Марина Ивановна своеобразно сходилась с людьми: влюблялась, мгновенно создавала образ, осматривалась, пелена спадала с глаз, разочаровывалась. Увлечения и разочарования почти всегда гиперболизировались. В этом была Цветаева! «Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т.е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве, — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т.е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа» (из письма литератору и журналисту О.Е. Колбасиной-Черновой (1886–1964) в январе 1925 года).
Потребность любви, неудовлетворенность, мотив «недолюбленности» отчетливо ощущается в жизни поэта, отражается с потрясающей откровенностью в письмах. «Всю жизнь «меня» любили: переписывали, цитировали, берегли мои записи (автографы), а меня — так мало любили, так — вяло (выделено Цветаевой) (из письма Б.Л. Пастернаку. Цит. по: Мария Белкина. Скрещение судеб. Москва, 1988, с. 139).
Много написано о Константине Родзевиче, как считают, самом сильном чувстве Марины Ивановны. Впрочем, достаточно прочитать «Поэму горы» и «Поэму конца». Независимо от истинного отношения Родзевича к Цветаевой письма ее он сохранил и передал после Второй мировой войны дочери поэта Ариадне Эфрон, которую помнил маленькой девочкой... Как понять — берег автографы или хранил память? Михаил Козаков неожиданно в доме матери встретился с пожилым джентльменом, ее знакомым с дореволюционных лет. Михаил Михайлович, увлеченный открывшейся ему в то время Цветаевой, бесконечно и вдохновенно читал гостю стихи, не зная, кто сидит перед ним. Им оказался Константин Родзевич…
Цветаева-женщина ревнует к Цветаевой-поэту. Страдает. В «Записных книжках» послереволюционных лет появляется запись: «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви — желание смерти».
Источником сведений о жизни русской послереволюционной эмиграции в значительной мере служит книга Берберовой «Курсив мой». В частности, она пишет и о Марине Цветаевой: «В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она — не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы. Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена «гнездом» и одинока, она находила, и теряла, и ошибалась без конца». И еще: «…Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный… (выделено мною. — И.Л.). Нина Николаевна Берберова отличалась аналитическим умом, наблюдательностью и в отличие от Цветаевой — прагматизмом и железной волей.
Незадолго до отъезда в СССР Марина Ивановна встретилась с писателем, публицистом, верным другом Марком Слонимом. Ему запомнилась растерянность и, пожалуй, потерянность Цветаевой: «Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова. «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура, Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Сергей Яковлевич и Аля в это время были в ожидании перемен, активно шли навстречу, чему — не догадывались…
Илья Эренбург дружил с Цветаевой в годы их московской молодости. В книге «Люди, годы, жизнь» он вспоминал: «Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие…» Тогда она читала Эренбургу стихи, одно из которых запомнилось:
По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет.
И первый ком о крышку гроба
грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной боярыне Марине.
Русская поэтесса Ирина Одоевцева хорошо знала Марину Ивановну по Петербургу и Парижу. Она замечает: «Смерть, смерть, смерть — мысли о ней не покидают ее, но это не мешает ей страстно любить жизнь».
Быть нежной, бешеной и шумной
— Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной,
Прелестной быть,
Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины.
О возмущенье, что в могиле
Мы все равны...
И далее:
Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб.
И вторые — снова о смерти, о могиле:
Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли.
Ирина Одоевцева приводит одно из самых трогательных, по ее мнению, стихотворений Цветаевой:
К вам всем (что мне, ни в чем
не знавшей меры,
Чужие и свои?!)
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно
За правду да и нет,
За то, что мне так часто слишком
грустно
И только двадцать лет,
За то, что мне прямая
неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
Послушайте! Еще меня любите
За то, что я умру.
Марина Ивановна оживала за письменным столом: здесь ее любили, ценили, славили, здесь она властвовала. Но со всех сторон наступала жизнь с ее радостями и проблемами.
К середине 30-х годов роли в семье поэта четко определились, ничего изменить уже было нельзя. Сергей Яковлевич со всей пылкостью души, с желанием замолить грех участия в Белой армии стал тайным сотрудником НКВД. В семье впервые появились деньги и неотвратимая беда. Об этом не подозревали ни Аля, ни Сергей Яковлевич, стремившиеся поскорее попасть на родину. Предчувствие беды овладело Мариной Цветаевой…
Из письма С.Я. Эфрона сестре — Е.Я. Эфрон 4.12.35 в Москву: «Марина много работает. Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь, и никак ее из этого состояния не вырвать… Последние стихи ее очень замечательны и вообще одарена она, как дьявол».
Так или иначе, ее судьба была решена. 18 июня 1939 года Марина Ивановна с сыном Муром вернулась на родину после 17-летней эмиграции. Встретилась с мужем и дочерью… ненадолго. Через два месяца, 27 августа, арестовали Ариадну Эфрон, а 10 октября забрали Сергея Эфрона. Клетка захлопнулась. Впереди — бесполезные очереди в различные приемные, передачи дочери и мужу. Полная неизвестность и непонимание произошедшего. Трагическая растерянность в те годы была у многих.
В Москве в ту пору у Марины Ивановны оставалось еще достаточно много прежних знакомых и друзей. Но не все хотели общаться. Слишком опасно было поддерживать дружеские отношения с бывшей эмигранткой, да еще при арестованных родственниках.
И все же общение было — как с немногими прежними знакомыми, так и с новыми. В трагические 40-е годы у Марины Ивановны было и сердечное увлечение, как всегда нелегкое, молодым поэтом Арсением Тарковским… Пожалуй, благодаря этой встрече появилось одно из последних прекрасных стихотворений Цветаевой.
Арсений Тарковский написал: «Я стол накрыл для шестерых». Марина Ивановна ответила. Через несколько лет после трагической гибели Цветаевой Тарковский прочел стихотворное послание и, по словам близких к поэту лиц, не смог скрыть огромную боль утраты…
Арсений Тарковский
Стол накрыт на шестерых —
Розы да хрусталь...
А среди гостей моих —
Горе да печаль.
И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.
Как двенадцать лет назад,
Холодна рука,
И немодные шумят
Синие шелка.
И вино поет из тьмы,
И звенит стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло».
Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:
«Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».
Марина Цветаева
Я стол накрыл на шестерых...
Всe повторяю первый стих
И всe переправляю слово:
— «Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл — седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую...
Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней.
Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?
Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий —
Ты сам — с женой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!
Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу — с твоими,
(Своими)...
Робкая как вор,
О — ни души не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.
Раз! — опрокинула стакан!
И всe, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.
И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.
...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и всe же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть —
душ,
Меня не посадивший — с краю.
6 марта 1941 г.
После ареста дочери и мужа Марина Ивановна осталась без жилья и была вынуждена вместе с Муром скитаться с большим багажом по чужим случайным комнатам. Жить в Доме творчества писателей ей не разрешили, предоставив только талоны в столовую.
22 июня 1941 года стало для Цветаевой тяжелейшим потрясением, страх за сына превратился в навязчивую идею. Вопрос с жильем стоял все так же остро. Вот что говорила об этом Марина Ивановна 31 августа 1940 года в письме В.А. Меркурьевой: «Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. …Словом, Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню, п.ч. это была моя судьба. Только — чем кончится?! (выделено мною. — И.Л.) Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не (выделено М.Ц.). У меня есть друзья. Но они бессильны. И меня начинают жалеть (что меня смущает, наводит на мысли…) совершенно чужие люди… я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада… И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала. Я от природы очень веселая. Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. — Все — …». И этой малости Марина Ивановна лишилась.
27 августа 1940 года по совету Бориса Пастернака Цветаева пишет отчаянное письмо в правление Союза писателей Петру Павленко, рассказывает о своей беде. Письмо длинное, в нем звучит безграничное, неприкрытое страдание, вопль о помощи. «Меня жизнь за этот год — добила. Исхода не вижу. Взываю к помощи».
/27_m/27_m2.jpg) 28 августа Борис Леонидович, прочитав письмо Марины Ивановны, пишет от себя и просит помочь: «…Я ее знаю как очень умного и выносливого человека и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но, во всяком случае, эта разгоряченная таинственность мне не по душе и очевидно не к добру». Борис Леонидович не думает о непоправимом, но его тревожит «разгоряченная таинственность»…
28 августа Борис Леонидович, прочитав письмо Марины Ивановны, пишет от себя и просит помочь: «…Я ее знаю как очень умного и выносливого человека и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но, во всяком случае, эта разгоряченная таинственность мне не по душе и очевидно не к добру». Борис Леонидович не думает о непоправимом, но его тревожит «разгоряченная таинственность»…
Положение на фронтах ухудшается. Начинается эвакуация из Москвы. Марина Ивановна страшится бомбардировок, Мур, к ее ужасу, тушит зажигательные бомбы, уезжать из города отказывается. Они спорят. После долгих колебаний Марина Ивановна решает эвакуироваться. Семьи писателей уже эвакуированы специальным рейсом на пароходе в Чистополь. Цветаева едет в Елабугу. Ее провожали Борис Пастернак, Виктор Боков, Лидия Либединская. У Цветаевой поломался замок на чемодане, и она попросила Бориса Леонидовича принести веревку, чтоб закрыть чемодан. Он не забыл, принес… На пароходе было 10 или 15 семей писателей. Татьяна Сикорская, писатель (1901–1984), плыла вместе с Мариной Ивановной, о чем спустя годы, в 1948 году написала Ариадне Эфрон: «В течение 10 дней мы очень сблизились с Мариной Ивановной, читали друг другу стихи, грустили о Москве. Она иногда подходила к борту нашего маленького пароходика и говорила: «Вот так — один шаг, и все кончено». Ее особенно пугала мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе. «Лучше поступить судомойкой в столовую. Это единственное, что я могу». Гибель и смерть казались ей неизбежными — вопрос в месяцах, а не в годах жизни. Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования. Мур был с ней груб и резок…» Я привела небольшой отрывок из подробного описания общения с Мариной Ивановной на пароходе, затем в Елабуге и во время поездки в Чистополь. Сикорской казалось, что после встречи в Чистополе с Николаем Асеевым Марина Ивановна обрела надежду. Там же Цветаева встречалась с друзьями — обещали помочь найти комнату. Марина Ивановна навестила идишистского писателя Ноаха Лурье (1885–1960), с которым подружилась в Доме творчества в Голицыно. В один из дней в Чистополе Цветаева встретилась с Лидией Чуковской. Они вместе ожидали решения партийного собрания — Цветаевой прописку в Чистополе разрешили после письменного обращения Николая Асеева (на собрание он не пришел), против голосовал только Константин Тренев. Всех поименно надо знать и помнить!
Заявление, в котором Цветаева просит принять ее судомойкой в столовую Литфонда, было написано 26 августа 1941 года. Этот листок до самых своих последних дней тайно хранил Иван Игнатьевич Халтурин, писатель, литературный редактор, журналист.
Казалось, все улажено и Цветаева с сыном переедут в Чистополь. Август заканчивался. Мур хотел учиться в чистопольской школе. Нужно было торопиться к началу учебного года. Марина Ивановна в те дни, казалось, утратила самостоятельность, ничего не могла решить, металась от одного к другому.
Что случилось 31 августа 1941 года, что послужило причиной рокового решения, навсегда останется тайной.
В «Записных книжках» мысль о крюке звучит настойчиво. Еще в 1940 году в дневнике Цветаева записала: «Я не хочу умереть. Я хочу не быть», и еще: «Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк».
В феврале 1941 года написаны страшные, не оставляющие надежды строки:
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...
Иосиф Бродский сказал, что о причине самоубийства спрашивать следует у самоубийцы. По сути, верно, но как узнать?!
Что думала о самоубийстве Марина Ивановна? В отклике на гибель Маяковского она пишет: «Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни... Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства, ибо первое — подвиг, вторе — праздник. Превозможение природы и прославление природы. Прожил как человек и умер как поэт» (из статьи «Поэт и время», 1932).
Еще раньше, в начале января 1926 года, написано стихотворение при получении известия об уходе Сергея Есенина.
Брат по песенной беде —
Я завидую тебе.
Пусть хоть так она исполнится
— Помереть в отдельной комнате! —
Скольких лет моих? лет ста?
Каждодневная мечта.
****
И не жалость: мало жил,
И не горечь: мало дал.
Много жил — кто в наши жил
Дни: все дал, — кто песню дал.
Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего–нибудь да есть —
Потолочные крюки.
Вновь упоминание крюков!
/27_m/27_m3.jpg) В статье в журнале «Поэт и время» (1932) Цветаева написала: «Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени — обществу) принял за свой заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам — провод: самый прямой провод!..
В статье в журнале «Поэт и время» (1932) Цветаева написала: «Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени — обществу) принял за свой заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам — провод: самый прямой провод!..
…Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени по крайней мере настолько же сам себе время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и погубить».
Совершенно четко выражена позиция человека и поэта.
«Душевный строй поэта располагает к катастрофе», — утверждал Осип Мандельштам.
М.П. Сергеев, В.С. Гордова, врачи-психиатры (2006), пришли к заключению, что Марина Ивановна Цветаева страдала с 1913 года циклотимической депрессией, отмечая при этом сезонные колебания в творчестве.
Вряд ли стоит высказывать категорическое суждение о наличии психической патологии у поэта. Трудно вместить в прокрустово ложе диагноза сложный душевный мир Марины Ивановны Цветаевой.
Но все значительно сложнее. В душевной катастрофе Марины Цветаевой сплелись воедино личностные особенности человека и поэта, наследственная отягощенность. В качестве пускового фактора послужили трагические семейные обстоятельства, казавшиеся безвыходными.
Знаю, умру на заре! На которой
из двух,
Вместе с которой из двух —
не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой
факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней
сразу!
Пляшущим шагом прошла по земле! —
Неба дочь!
С полным передником роз! —
Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! —
Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую
душу!
Нежной рукой отведя нецелованный
крест,
В щедрое небо рванусь за последним
приветом.
Прорезь зари — и ответной улыбки
прорез...
— Я и в предсмертной икоте
останусь поэтом!
«Я хотела бы лежать на Тарусском Хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая крупная в тех местах земляника».
Закончу суждением Марины Ивановны Цветаевой: «Самоубийство — не там где его видят».
1. Белкина М. Скрещение судеб. — М.: Книга, 1988.
2. Берберова Н. Курсив мой. — М.: Захаров, 2009.
3. Бояджиева Л. Марина Цветаева. Неправильная любовь. — М.: Аст, Астрель, 2010.
4. Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. — М.: Независимая газета, 1998.
5. Гумилев Н. Письма о русской поэзии. — http://www.e–reading.by/chapter.php/96272/3/Cvetaeva__Recenzii_na_proizvedeniya_Mariny_Cvetaevoii.html
6. Журнал «Звезда». — СПб. — 1992. — № 10 (номер, посвященный М. Цветаевой).
7. Воспоминания о Марине Цветаевой. — М.: Сов. писатель, 1992.
8. Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. — http: reading.ws/bookreader.php/1012712/Kudrova__Gibel_Mariny_Cvetaevoy.html
9. Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. — М.: Культура и традиции; Дом Марины Цветаевой, 1992.
10. Одоевцева И. На берегах Невы. — М.: Захаров, 2005.
11. Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910–1922). — М.: Сов. писатель, 1986.
12. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. — М.: Эллис Лак, 1997.
13. Сергеев М.П., Гордова В.С. Психопатологический анализ жизни и творчества Марины Цветаевой // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. — Чебоксары, 2006. — № 2. — С. 77–93.
14. Марина Цветаева. Неизданные письма / Под общ. ред. Г.П. Струве и Н.А. Струве. — Париж: YMCA-PRESS, 1972.
15. Цветаева М. Неизданное. Семья: история в письмах. — М.: Эллис Лак, 1999.
16. Цветаева М. Просто сердце. — М.: Эксмо-пресс, 1998.
17. Цветаева М. Сочинения: В 2 т. — М.: Худож. лит., 1984.
18. Цветаева М. Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель, 1990 (Библиотека поэта. Большая серия).
19. Швейцер В. Марина Цветаева. — М.:. Молодая гвардия, 2009.
20. Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. — М.: Текст, 2005.
21. Эфрон А. Неизвестная Цветаева. Воспоминания дочери. — М.: Алгоритм, 2012.
22. Эфрон Г. Дневники: В 2 т. — М.: Вагриус, 2004.
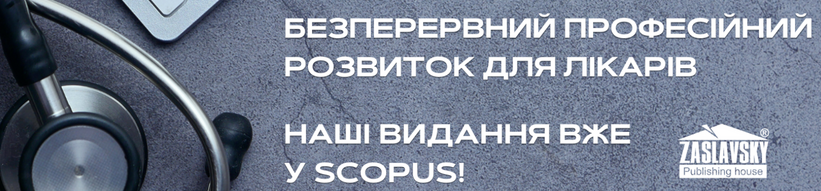

/25_m/25_m2.jpg)
/26_m/26_m.jpg)
/27_m/27_m.jpg)