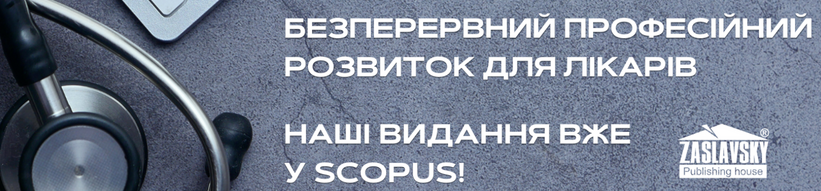Газета «Новости медицины и фармации» Психиатрия (303) 2009 (тематический номер)
Вернуться к номеру
Ex juvantibus
Авторы: Егор Кляйн
Версия для печати
Гарри Винору, моему знакомому и приятелю,
человеку и безусловному симулякру — с сарказмом и приязнью.
Вместо эпиграфа.
Анекдот о том, что балерина написала мемуары «Двадцать пять лет на сцене», а часовщик обиделся и написал мемуары «Пятьдесят лет за лупой», не может и не должен быть эпиграфом к чему бы то ни было, что пишется на бумаге, хотя, казалось бы, она все может стерпеть.
Я, уважаемый читатель, далее не буду испытывать ни терпение бумаги, ни твою снисходительность. Но этот эпиграф показался мне наиболее компактной и доходчивой формой и оправдания перед собой по поводу побуждений к написанию этого опуса, и проверки твоего интереса к дальнейшему тексту. И если уж ты добрался до этих строк, то, возможно, последующие записки «дикорастущего» психотерапевта не разочаруют тебя.
Возможно, кто-то склонен думать, что психотерапия — это высокоинтеллектуальное и высокодуховное общение со страждущими, причем настолько перфектное, что каждое слово психотерапевта есть откровение, судьбоносно разрешающее любые противоречия, а всякий жест и интонация — безошибочный терапевтический ответ на невербальные запросы и даже провокации пациента.
Но должен разочаровать наивных и прекраснодушных максималистов. Психотерапия — это по большей части выслушивание грустных, горестных, страшных, иногда нелепых историй, рассказываемых тебе их главными героями с тайной или однозначно выраженной (с той или иной степенью требовательности) надеждой получить ответ на вопрос: «Почему это не так, как я хочу?»
Конечно, принадлежность к той или иной терапевтической школе, владение ее теорией, методиками, водительство мудрого наставника практически исключают беспомощность в работе и всему называют имя, место и цену. Тогда практика происходит по первому, перфектному, варианту. В этом случае нет необходимости пытаться что-то понять своим слабым умом, вжиться на свой страх и риск в чувства и ход мыслей собеседника и, решившись, но никогда не будучи уверенным до конца, хотя при этом не подавать вида, дать оценку, совет, высказать свое отношение к тому, что важно для него. (При этом не быть до конца убежденным в том, что ты правильно понят, потому что фраза «Ты сказал одно, услышали другое, поняли третье, сделали четвертое, получилось пятое, восприняли как шестое, тебе передали как седьмое» — вовсе не гротеск, а повседневная реальность, к которой пора бы уже, да все никак не могу, научиться относиться как к закономерному явлению, в котором моя роль отнюдь не направляющая.)
А если ты сам по себе, без всеобъемлющей теории и всеведущего наставника?
Тогда все происходящее вокруг, в других и в самом тебе — твоя забота, твоя беспомощность, твои — маленькие или стоящие, реальные или иллюзорные — находки и приобретения.
Поэтому понимая себе подобных, предполагая, что таких немало, и веря, что они далеко не худшие в психотерапевтическом сообществе (а может, и лучшие, ведь делают то, что умеют, и так, как знают, причем и то и другое — в самом благородном смысле этого слова), я очень интересуюсь личными впечатлениями и наблюдениями своих коллег, особенно если они изложены или написаны простым человеческим языком, при этом без ущерба для содержания и практической ценности излагаемого.
Теперь ближе к эпиграфу.
Кое-что занятное, а может быть, интересное или даже, чем черт не шутит, стоящее есть и у меня. Его немного, но оно есть, и поделиться им с коллегами и друзьями очень хочется. Правда, мне самому это желание напоминает желание ребенка, который нашел на дороге несколько камешков и увидел на их поверхности восхитившие его узоры и шероховатости. Ему хочется со всеми поделиться своим открытием, а пренебрежительное или снисходительное отношение не только убьет радость, но и посеет неуверенность в том, что он способен найти что-то по-настоящему интересное. Я не ребенок и многого уже не боюсь, но все равно хочется дружеских и доброжелательных отзывов и оценок.
Что же касается резкости и даже скабрезности эпиграфа, то для них был повод, может быть, меньший, чем реакция. Изучая символдраму (одно из направлений психотерапии, в котором терапевтический процесс происходит в работе с визуализированными фантазиями), базирующуюся на психоаналитической парадигме, но в то же время использующую многие идеи аналитической психологии, я стал работать с пациентами как символдраматист и через некоторое время получил свои собственные впечатления. Я даже имел дерзость провести несколько сеансов с использованием мотивов направляемых фантазий, которых нет в перечне достаточно иерархизированных и клинико-статистически стандартизированных официальных символдраматических мотивов: ситуации в работе с пациентами представились мне не только допускающими, но и побуждающими к дерзостным импровизациям. Я рискнул, результаты обнадежили меня, и я просто изложил идеи и описал ситуации, где их использовал. Как раз в это время начал издаваться символдраматический журнал, в котором я предложил нашему наставнику и издателю журнала эти заметки напечатать. В ответ услышал разговоры о том, что это «ваковский» журнал и что там место для статей, где есть история вопроса, обзор литературы, обоснование идеи
и пр., и что «просто заметки» девальвируют его «ваковость». Я разобиделся. Да, мои писания скорее напоминали рассказ на перекуре символдраматического семинара, чем солидное научное сообщение, но и идея, и ее краткое, но вполне доходчивое и убедительное обоснование были. Что же касается статистики и пролонгированных результатов, то я, скорее, хотел поделиться наблюдением, чем результатом, что, на мой взгляд, не есть научный криминал. В каком-то смысле подтверждением правоты этого брюзжания была публикация моего экзерсиса под названием «Три этюда» в журнале «Таврический журнал психиатрии, психотерапии и психологии», которую организовал А.А. Коробов, профессор психиатрии, психотерапевт и удивительный человек. Его не смутил «неваковский» вид текста, текст был напечатан без купюр, и те из моих знакомых, кто читал его, отзывались о нем, как о чем-то им понравившемся и интересном.
Поэтому я решил сделать вторую попытку: изложить некоторые моменты и ситуации моей практической работы и соображения по их поводу в виде нескольких историй и предложить еще раз все тому же наставнику и издателю, может быть, для отдельной рубрики наподобие «Этюды из практики» или «Всяко-разно», где имеющие что сказать могли бы это сделать, а сама рубрика, не обязывающая к суровой и безукоризненной научности, была бы публицистическим и гуманистическим разделом, уже по определению не могущим посрамить честь любого, даже самого возвышенного научного мундира. Правда, теперь это уже не только и не столько символдраматическая тематика, но, думаю, наставнику и журналу стоит согласиться. Как говорил Беня Крик: «Берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». Если же нет — не судьба, развешу у знакомых на сайтах, кто-то да отзовется, а большего и не надо.
И последнее в этом затянувшемся эпиграфе. Егор Кляйн чем-то отдаленно и весьма скромно в известном смысле напоминает Козьму Пруткова или Льюиса Кэррола: «жить-то он жил, а вот быть-то его не было». Словом, это псевдоним. Моя физическая и возможная литературная, в любом варианте, жизнь — разные вещи. Но при этом все описанное происходило на самом деле.
Поэтому скажу, переиначивая традиционный для детективов разворот сюжета: «Если вы читаете этот текст в журнале «Символ и Драма», значит, я не только жив, но и могу кое-что вам рассказать». Сразу хочу сказать, что меня интересуют впечатления и мнения, касающиеся исключительно идей и ситуаций, описанных далее, а не меня самого (мне знаком интерпретаторский порыв моих коллег, и то, каким я предстану им сквозь этот текст, для меня не так важно, как их оценка моих замыслов).
Колыбельная для храпа, или Ода Жабе
Появление храпуна или храпуньи в многоместной палате отделения неврозов — достаточно частая и реально проблемная ситуация.
Возмущенная бессонной ночью палатная общественность решительно требует перевода нарушителя ночного спокойствия «в какую-нибудь другую палату», патетически декларируя исконную важность целительного, а часто, к тому же, и медикаментозно достигаемого сна для нервного человека. Сам же виновник, как правило, кроток и готов к изгнанию.
Сон важен и целителен — кто бы спорил, но «другой палаты» нет, да и сам храпун, на которого обрушивается бесцеремонный гнев сопалатников, выглядит хоть и виноватым, но, в общем-то, без вины.
И, стремясь не ущемлять храпящие меньшинства, я в этих случаях предлагаю использовать именно храп для улучшения сна пострадавших, сделав несколько предварительных пояснений.
Первое. Дзэнский принцип, в нашей транскрипции звучащий как «нет худа без добра», дополняется подходом, противоположным демократическому зачитыванию прав арестованным в боевиках: «Все неприятности и сложности, происходящие в отделенческой жизни, могут быть обращены на пользу вашему нервному равновесию».
Второе. Как уточнение и иллюстрацию стратегии, изложенной в первом пункте, я выясняю во время общего разговора в палате, все ли ночные шумы мешают спать. Выясняется, что стук трамвайных колес, шум заводских корпусов, аэродромов и даже крики животных из зоопарка довольно быстро, а часто — сразу, перестают мешать заснуть и спать тем, кто живет поблизости. Вскоре собрание соглашается, что самое мучительное в мелодии храпа и его громкости — это именно то, что его источник глубоко и сладко спит, в то время как окружающие терзаются, теряя остатки равновесия и выдержки, и без того подорванных нервными расстройствами.
Так или иначе, в размышлениях собрания неохотно появляется мрачный образ Жабы — чувства неприязненной зависти к тому, кому лучше. Воистину — человек больше всего страдает от сравнения не в свою пользу; хотя эта фраза для меня впервые прозвучала из уст кинопрототипа известного врача-изувера и нациста, я не могу отказать ей в содержательности.
Но, услышав о Жабе, я искренне становлюсь на защиту ее обладателей — в способности и стремлении сравнивать и делать выводы ничего предосудительного нет, ведь, пожалуй, только этим, да еще способностью выражать и фиксировать эти выводы отличается, по большому счету, хомо сапиенс от братьев своих меньших. Дело не в выводе, а в том, что этот вывод делает. С человеком и для человека.
И вот тут начинается собственно «вторая часть марлезонского балета», изложенного в первом пункте — как же использовать во благо (и даже «во развитие») злополучный храп?
Третье. О могучей силе Жабы рассказывать невыспавшемуся собранию излишне — все хорошо это чувствуют. А ведь зависть — это ущемленное чувство превосходства, стремление к которому есть неотъемлемая часть любого прогресса. И если эту творческую силу использовать для достижения цели, то тогда ночные горячечные мысли «Ты спишь, а я из-за тебя мучаюсь!» можно дополнить и завершить позитивно-продуктивным аккордом: «Так я засну назло и даже благодаря тебе!».
Дзэнский принцип «вопреки и даже благодаря» в этой конкретной ситуации, ставящей человека перед выбором — изобрести что-то принципиально новое для себя или мучительно страдать, помогает не только попробовать отказаться от привычной, заманчивой, но часто тупиковой склонности требовать от мира событий, которые «должны быть по понятиям» в пользу самостоятельной активности по обеспечению протекания должных и желательных событий. А это уже приближение (причем с неожиданной стороны) к решению сути многих, если не всех невротических проблем: «Мир и Жизнь — вы мне должны!».
Иногда я проговариваю и эти соображения, так как самостоятельность и устойчивость жизни человека, на мой взгляд, заключаются в том, что он не ставит окружающей среде каких-либо предварительных условий своего существования, преодолевая трудности по мере их возникновения.
Так вот «назло», а по сути — «вопреки», становится в этой идее движущей силой, поддерживая естественное стремление «хочу спать!» и не давая сорваться в пропасть упоительных и на этот раз вполне законных стенаний и полыханий — как внутренних, так и, разумеется, внешних.
И еще: важным представляется момент общего обсуждения собранием пациентов соображения о том, что ни зависть, ни стремление к превосходству, то есть честолюбие, ни какие-либо другие проявления жизни человеческой души не являются однозначно благими или пагубными. Как и в теле, в душе нет лишних «органов» — дело, скорее, в несвоевременном, малоуместном или избыточном проявлении или использовании душевных явлений и свойств.
Такой разговор, если он удачен, углубляет представления о происходящем в человеческих чувствах, побуждает интересоваться ими, наблюдать и обдумывать их, а главное — стремиться влиять на них в плане не только побудительно-запретительных устремлений типа «взять себя в руки и больше никогда…» («не обращать внимания», «не принимать близко к сердцу», «не позволять садиться себе на шею» или что-нибудь столь же горячее, категоричное и маловероятное), но и личных и творческих усилий по достижению желательного и желанного результата данной ситуации — сна. Вопреки. И даже благодаря. Благодаря звучащему и доводившему до отчаяния и бешенства храпу соседки по палате.
Четвертое. Теперь предлагается конкретный принцип преобразования напасти во благо.
Принцип в чем-то символдраматический — прислушавшись к храпу,
(Понятно, что это своеобразная свободная ассоциация, могущая быть материалом для индивидуальной работы с пациентом, если он поделится своими впечатлениями и захочет этой работы.)
Найдя такое подобие, наиболее близкое уму и сердцу обладателя кипящего возмущением разума, его следует целенаправленно поддерживать и развивать (чему способствует решительный творческий задор, еще недавно бывший злостной Жабой) — например, прийти на берег моря, где шумит прибой, и, насмотревшись на него, искать дорогу к дому или делать в пространстве своего воображения что-нибудь другое, что представляется уместным, желательным или первым, что приходит в голову. Причем мною декларируется право и возможность пациентов действовать исключительно по своему желанию и направлять ход событий только по своему усмотрению.
Мною заявляется весьма вероятное предположение о том, что с какого-то момента события в таких представлениях станут самостоятельными и фантазии незаметно перейдут в естественное сновидение. Но даже если такого не происходит, страдалец превращается в режиссера, снимающего собственное «кино» и использующего раздражающий храп соседа как материал для самостоятельного позитивного творчества. Отсутствие которого, возможно, — главная причина невротического уныния и пессимизма.
Не так часто, как хотелось бы, эта идея срабатывает. Статистику и катамнез предлагаю набрать самостоятельно, а результатами прошу поделиться. Также не буду против здравых и обоснованных модификаций.
Мой коллега, сотрудник, давний и добрый (в значительной и достаточной степени) знакомый, ник, или псевдоним, которого я обозначу как Иржи Атварр, прочитав рукопись этого текста, сказал, что его имя следовало бы упомянуть как имя полноправного соавтора идеи.
В этих претензиях он основывался на том, что я однажды посетил групповое занятие, где он для своих пациентов проводил тренинг по одновременному и нейтральному или даже позитивному восприятию множества раздражителей, ранее астенизировавших их. (Примером результата этих усилий для меня тогда стала реплика одной из его пациенток, страдавшей ощущением «нехватки воздуха», которое возникало в рейсовом автобусе по дороге на работу и усугублялось до состояния отчаяния обычным шумом и разговорами пассажиров; после тренинга она сказала, что теперь может воспринимать фоновый шум «как потоки дождевой воды, стекающей по скале».)
Когда эти претензии были мне предъявлены, я был удивлен и раздосадован. Ведь, по моему мнению, это самостоятельная разработка творческого преобразования дистимического аффекта в источник и движущую силу по достижению ранее маловероятного, но тем более значимого результата.
Теперь же (
Хор «Кручинушка»
О том, что невротические страдания мучительны и тягостны, а депрессивные — одни из самых, а возможно, и самые тяжкие в природе, теперь становится все более известно. (Реальной иллюстрацией этого стал рассказ моей коллеги о том, что ее пациентка, перенесшая несколько полостных операций, ответила курировавшим ее хирургам, потрясенным неожиданной для них стойкостью, весьма контрастировавшей и с холеной внешностью женщины, и с тем, что она принадлежит к кругу людей высокопоставленных и весьма обеспеченных, где терпение и мужество дам немногим более вероятно, чем существование пятиугольного треугольника: «Доктора, я перенесла депрессию, а в сравнении с ней любая другая боль переносится легче».)
И тем не менее очевидное, но столь же непостижимое для окружающих, в том числе и самых близких, несоответствие физической неповрежденности тела депрессивного больного и несомненных тяжких его страданий оказываются непреодолимыми для ума и голоса жизненного опыта этих самых окружающих. «Руки-ноги целы, температуры нету, — что это за болезнь?! Она что-то вбила себе в голову (мается от безделья, бесится с жиру, слишком многого хочет, слишком много думает, не живет реальной жизнью, неправильно питается, мало двигается и т.д.)!» И несчастный человек оказывается в отчаянном одиночестве перед депрессией — бездной безысходной пустоты, в которую он постоянно падает, не достигая дна, и каждая секунда такого падения рождает всепроникающий и всепоглощающий ужас; при этом такое терзание происходит при беспощадной ясности ума и гнетущей трезвости памяти. Понятно, почему мысли о прекращении такого страдания (даже ценой прекращения собственного существования) постоянны и желанны, и только заторможенность всего, что касается внешней активности, и в первую очередь воли, спасает больного, а некоторое послабление мучений к вечеру и короткий ночной сон дают надежду на передышку.
У меня нет серьезных претензий к близким депрессивных больных. В большинстве своем сочувствуя, они интуитивно, что называется, ощущают трагичность переживаемого их близким (разумеется — на несколько порядков меньше) и стремятся чем-то помочь. Но отсутствие внешних причин для таких гомерических страданий или смехотворная незначительность тех, которые все же можно изыскать или предположить, приводит к переживанию непостижимости, а потому — беспомощности родственников и знакомых перед тем, что происходит с близким или родным человеком, страдающим депрессией.
Чувствами человек способен постичь, наверное, гораздо больше, чем умом, но все, постигаемое чувствами, существует в сознании в виде переживаний и, не переработанное умом, не может быть ни к услугам, ни даже к сведению переживающего. За исключением, пожалуй, подспудного или осознанного желания защитить себя от ощущения собственной беспомощности и сохранить собственное уважение к своему выстраданному и выстроенному жизненному опыту и здравому смыслу.
А потому понятна и, в конце концов, извинительна примерно такая логика: «Для меня непостижима теорема Ферма или траектория движения кометы Галлея, но мне, по большому счету, наплевать на них, если лично мне они ничем не угрожают, но если в моем собственном доме с моей собственной женой происходит что-то немыслимое и непостижимое, то, скорее всего, здесь что-то не так и все очень просто — она вбила в голову какую-то дурь, которую должна выбить из своей головы и взять себя в руки!» (особенно благородно, если эта логика все же не вербализуется).
Но рассказ о хоре «Кручинушка» все же не рассказ о психотерапии больных с эндогенной депрессией, хотя они имеют отношение к идее его возникновения.
Когда-то давно я заметил, что немолодые женщины и даже престарелые тетки и бабки, которые утром лежат пластом в своих кроватях и тихо и односложно отвечают на вопросы, собираются по вечерам в палатах, чтобы негромко, с трогательной неумелой искренностью, вместе попеть знакомые и милые сердцу песни. Уже тогда я подумал, что песня — очень сложное и изглубинное явление человеческой культуры и души — помогает пережить даже депрессивную подавленность.
Итак, мои пациенты бесспорно и истинно страдают.
Мне до сих пор совестно за то, что я когда-то давно не сдержал неумной и насмешливой ухмылки в ответ на прочувствованное и драматическое восклицание одной дамы, внешне вполне здоровой: «Я самая больная и самая несчастная!», что вызвало бурю возмущения и слез и досрочную выписку по ее инициативе.
Они страдают, получив на это индульгенцию от медицины в виде диагноза «вегетососудистая дистония по смешанному типу», что дает им право, моральное и официальное, уныло недоумевать: почему же так плохо со здоровьем, когда все так хорошо с анализами и обследованиями?
Страдания — единственно или преимущественно доступные им чувства из достаточно богатого спектра человеческих переживаний («Без здоровья ничто не радует и ничто не мило!»). А поскольку, по данным науки, полное отсутствие впечатлений и переживаний губительно даже в физическом смысле слова (опыты по сенсорной депривации), то страдания становятся целью и смыслом душевной жизни больных и потому взыскивают с окружающих почтительного понимания и глубокого сострадательного уважения к себе. Дерзавец же, который их не проявляет, либо громогласно объявляется бездушным, либо пронзительно оплакивается и подвергается великодушному прощению как закономерному проявлению безразличия мира и общества к судьбам обездоленных (что имеет свое действие — суеверное стремление не гневить судьбу, чтобы не навлечь на себя подобного несчастья, заставляет многих быть участливыми к страдальцам и даже оказывать разнообразные услуги).
И вот тут заканчиваются мои симпатии к страданиям, но остается уважение к ним. Ведь человек не только имеет право на радость, но и облечен обязанностью обеспечивать себя ею.
Радость, способность радоваться, забота об этой способности есть своего рода обязанность человека, о которой он может и не знать, с которой не всегда может соглашаться. Но пренебрежение этой обязанностью (трудной, потому что всевозможных причин для страхов, горестей и разочарований превеликое множество, а поводы для радости всегда или недостаточны, или неубедительны) постоянно приводит к унынию, а потому — к нездоровью.
В догматах разных религий, насколько мне известно, исходя из разных оснований и приходя к разным мировоззренческим выводам, так или иначе провозглашается идея необходимости душевной гармонии (возможно, как равновесия между страхом жить и страхом умереть и увлеченным трудом по сопряжению точки этого равновесия с текущими жизненными событиями), делающую плаванье в море житейском устойчивым и свободным, а потому — радостным.
Думаю, что и с научной точки зрения (в значительной степени материалистической даже в вопросах устройства макро- и микрокосма) необходимость взрастить и развить способность радоваться собственной жизни и своему участию в жизни окружающей — существенная, если не первоочередная, задача человека, вероятно, дающая ему возможность наиболее полно реализовать биологическую и социальную миссию и, уверен, имеющая свои биохимические, иммунные, структурные, функциональные и поведенческие маркеры и корреляты. (Но это предмет отдельного размышления, хотелось бы дожить до возможности обоснованно и емко выстроить его.)
Драматизм же внутренней ситуации невротических больных и/или вегетодистоников, по моим представлениям, в том, что их нездоровье — фасад и консервант их уныния, которое есть и результат, и способ их существования. Недоразвившись или недозавершившись на каком-то из этапов своего психоэмоционального и ментального развития, они ощущают и переживают эту незавершенность как акцентуированность каких-либо своих свойств, а при предъявлении жизнью требований к полноценному функционированию неструктурированных психофизиологических систем — дают сбой в виде какой-либо патологии, которая ограничивает их развитие в данном направлении и в некотором смысле спасает эти структуры, пусть и ценой болезненного и ущербного существования, но с перспективой возможного их доразвития и полноценного функционирования.
Если извлечь из предшествующей наукообразной сентенции какой-то человеческий смысл, то он прозвучал бы ответом знахарки горбуну: «Это у тебя, сынок не горб — это у тебя сложенные крылья!» Поэтому судить невротиков за пессимизм — совестно, а поощрять — психотерапевтический грех.
Собственно, все вышеизложенное сказано только для того, чтобы сделать более понятным и менее коробящим афоризм, который я рано или поздно объявляю каждому из своих пациентов: «Вы не виноваты в том, что вам плохо, но, согласитесь, вы и не правы». Понимание и принятие сути этого высказывания во многом определяет ход дальнейших психотерапевтических событий.
С преимущественным, но не единственным ощущением удивления и заинтересованности, частично замещавшие уже устоявшиеся патетико-пессимистическое покорствование судьбине и драматическую укоризну мирозданию, которое вероломно разочаровало искренние и законные надежды их светлых, открытых и прекрасных душ, пациенты осваивались с тем, что никто их радовать не обязан. И если хочется свежести, легкости и света, то к этому неизбежно приходится прилагать собственные усилия вопреки привычному и беспроигрышному снисходительно-насмешливому недоверию, скрывающему страх разочарования и беспомощность, или хотя бы не противиться попыткам вовлечь их в события, где риск разочарования, происходящий от неверия, неуверенности и несостоятельности с той или иной долей убедительности уравновешивается надеждой почувствовать себя свободными от внутренней обязанности быть безукоризненными и совершенными, как того изнуряюще домогается внутренний идеал-императив, и следовать простому, упоительному и пугающему, как поросячий визг, падению в участие в каких-то событиях, без гарантии, но с надеждой уже не на успех, а на удовольствие, собственное, личное, свое, общественно бесполезное настолько, насколько невыразимо сладостным, упоительным, личным, своим может быть тот особенный зуд в носу, появляющийся после того, как, не выстояв в борьбе долга и потребности, все же чихнешь — звонко и смачно, и при этом, несомый и хранимый этим самым упоительным свербежом в носу, делаешь мимолетное открытие, значимость которого станет целебной несколько позже: плохо не тому, кто чихнул, а тому, кого это возмущает.
Рента сочувствия или уныло-упоительное право на безмолвную укоризну ставились под сомнение заманчивой и пугающей возможностью ощутить радость от непосредственного, пусть неумелого и неуклюжего, но самостоятельного проявления себя самого, пусть даже в чем-то простеньком и незамысловатом.
И еще. Страх несостоятельности и посрамления, охраняющий и питающий уже существующую внутреннюю несостоятельность, гораздо более краеугольную, чем ужас любого действительного позора, — несостоятельность в способности радоваться собственной и непосредственной жизни, часто порождал или подкреплял у моих пациентов перспективу грядущей окончательной и унизительной бедности. И жуткая тень бомжа или пенсионера, шарящего в мусорных бачках, появляясь в фантазиях эпизодически или присутствуя постоянно, изводила их, придавала драматическому унынию трагический привкус отчаяния.
Подобное лечится подобным. И если факт, что после первого поцелуя ты отнюдь не покрываешься сифилитической коростой, которой неявно, но очень действенно пугала строгая мама, открывает упоительную возможность не только просто жить дальше, но и (даже!) жить самостоятельно и радостно, то и пережитый факт символического падения дает возможность почувствовать, что бедность — это, безусловно, тяготы и неудобства, но отнюдь не конец жизни, а скорее, ее начало — начало жизни, свободной от изнуряющих, неизбывных и бесплодных амбиций.
Поэтому расположение и понуждение к пению страдалиц (повторюсь, истинных и искренних) — дело не только бесцеремонное, но и бездушное. Однако когда так или иначе разговор заходил о том, что потеря «самого дорогого на свете» — здоровья и позорная беспомощность медицины и общества в деле возвращения здоровья есть неизбежный путь к нищете, то я, посыпая голову пеплом медицинской беспомощности, предлагал сразу попрактиковаться в нищенствовании, чтобы стенающие могли выписаться хотя бы с навыком побираться. А поскольку одним из самых достойных, выразительных и успешных способов попрошайничества, безусловно, является пение в подземных переходах, то я объявлял, что все «будущие калеки» объединяются в хор, который будет выступать в отделенческом холле в предобеденное время с обязательным взиманием подаяний у слушателей, которые потом будут частично пропиты, а частично — употреблены на палатные нужды (то есть на заработанные деньги покупались бы соки и сладости, а на оставшееся — оливковое масло для смазывания языка тем, кого донимает сухость после приема антидепрессантов).
Когда становилось ясно, что от этой напасти не отвертеться, наступала закономерная пора уклонений и отказов, объясняемых, казалось бы, совершенно убедительными и уважительными причинами: «нет голоса», «нет слуха», «никогда не пела на людях», «стыдно: подумают, что я сумасшедшая».
В ответ на это звучали мои еретические, а на самом деле программные возражения: «Для того, чтобы петь, голос и слух не нужны — они мешают, заставляя слушать, как звучит голос, а для того, чтобы петь, важно слышать, как звучит сердце».
Далее проделывались следующие этапы (с предварительным объяснением «лечебного» смысла этапа или с последующим общим обсуждением и выяснением этого смысла).
Первый. Право на песню.
Человеку всегда есть что сказать самому себе, хотя это обращение чаще всего закрыто или изменено голосами долга и совести. Поэтому человек так редко и мурлычет себе под нос что-нибудь — ну под душем, ну за любимым занятием или еще в каких-то нечастых случаях, когда нравится то, что ты делаешь, то, как это у тебя получается, и то, что из этого выходит. Поэтому решиться запеть вслух без свидетелей (пока — именно свидетелей, а не слушателей) означает решиться выразить и услышать то, что искренне чувствуешь.
Наверное, право на песню — это уже приобретение участников хора. На первых порах я старался достаточно деликатно спровоцировать стихийное пение в палате во время обхода — «кучей легче и батьку бить».
Второй. Право петь для себя.
Мало кто думает о том, что всякий изданный звук есть сигнал для окружающих. Он рефлекторно привлекает их внимание и предполагает их реакцию, но ощущают это и смущаются этим все. Поэтому на втором этапе провозглашалось право петь вслух именно для себя, решившись на дерзкое дело — слушать себя, а не смотреть на то, кто тебя слушает и как ему это нравится.
Многие из певуний отмечали, что в те мгновения, когда им становилось интересным не то, насколько музыкально звучит их голос и насколько выразительно звучат слова, а то, насколько искренне он передает происходящее в душе и насколько уверенно язык выговаривает те слова, которые происходящее выражают, — в эти мгновения присутствующие слушатели и их оценки и мнения переставали быть сковывающим фактором.
Третий. Право быть услышанными.
После того как становится убедительно очевидным, что «своя» песня — это искренний разговор с самим собой о том настоящем и важном, что до сих пор не было доступно как чувство, а было безгласным томлением или смутным страданием, можно проверить, действительно ли искренность и открытость чувств — это неосмотрительность, делающая жалким и уязвимым.
Ведь спорить можно только о чем-то внешнем, о том, на что возможно несколько точек зрения и о чем может быть предварительно большая или меньшая осведомленность, а потому есть опасность посрамления.
О том же, что ощутимо только тебе одному, спора быть не может. И если выражение этого чего-то становится необходимым для его прочувствования, а может, и постижения, то тогда только ты сам себе авторитет и судья. То есть информация адресуется к уму и им проверяется, чувства же адресуются к сердцу и рождают ответное чувство так же непосредственно, как приближение магнита вызывает индуктивный ток в катушке и ответное магнитное поле. Поэтому когда поешь о себе в присутствии других, то не столько выносишь себя на их суд или взываешь о сочувствии, сколько доверяешь им присутствовать при проявлении своих чувств, допуская, что в их ответных чувствах выразится знакомость и значимость для других того, что происходит в тебе.
То есть ты не клянчишь и не командуешь — ты ждешь эха, и важен любой отзвук, так как он не заглушает, а лишь повторяет, всякий раз с новой стороны и с новым оттенком звука, то, что звучит в тебе, позволяя услышать его еще и еще раз.
Хоров было несколько. Но в существовании последнего из них идея реализовалась наиболее полно.
После очередного тура слушания сокрушений о здоровье я достаточно шутливо, но не без интригующей концептуальности рассказал о лечебном действии эмоций, переживаемых во время пения: что-то вроде «радостные песни укрепляют, а грустные — углубляют силы нервной системы». И не обещая исцеления, предложил попеть на людях — если уж крайняя нужда приключится (а в том, что она не приключится, были уверены и я, и пациенты), то хотя бы знать, как этим заработать на корочку хлеба.
Мытьем и катаньем я достиг того, что певчая группа сформировалась как «хор лечебно-оздоровительной песни», а поскольку все сошлись на том, что расстройства у каждого так или иначе связаны с депрессией, хор был наименован «Кручинушкой».
После долгих метаний прилюдно решилась выступить одна из пациенток. А ее оживление и удивление по поводу того, что вместо позора и «смерти от стыда» она испытывала подъем и увлеченность, вместо насмешек и издевательств встретила симпатию и поддержку слушателей, а на брошенные в выставленную шапку денежку смогла накрыть вполне приличный стол с десертом к вечернему чаю, заинтересовали и воодушевили других женщин, мобилизованных мною в хор.
«Кручинушка» дала несколько концертов, причем ни на одном из них я не присутствовал, мрачно заявляя, что интересуюсь только сборами и обосновывая такую меркантильность фразой «Что-то может быть таким или эдаким, но вещью оно становится тогда, когда его кто-то купил». Хористки огорчались, говорили, что хотели меня порадовать. Но на самом деле я никак не хотел влиять своим присутствием на приключения их чувств — ни поддерживая, ни обязывая, хотя, конечно, был горд тем, что медсестры, дежурившие в тот день, в шутку попросили меня составить протекцию для поступления в хор с целью дополнительных заработков и «отведения души». На последнем концерте, имевшем шумный успех, исполнялись написанные самостоятельно и с теплой иронией песни «от живота», «сердца», «головы» и «всего организма».
Многие хористки без понуждения говорили о своих переживаниях, сходных с впечатлениями «пионерки подзаборного пения», о том, что стали увереннее, что свободнее выражают свои чувства и впечатления, отношение ко всевозможным событиям и что это позволяет им чувствовать себя увереннее и свободнее выражать то, что раньше переживалось только внутри, подолгу напрягая их.
На вырученные деньги пациенты-агорафобики купили в артистическом квартале китайский колокольчик, совершив ради этого беспримерный проезд практически через весь город на общественном транспорте.
И теперь, когда я захожу в палату, где лежат мои больные, китайский колокольчик, висящий на двери, отзывается мелодичным перезвоном. Может, он напоминает о том, что, действительно, «нам песня строить и жить помогает»?